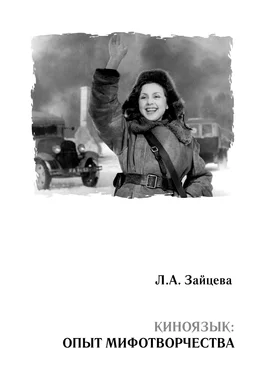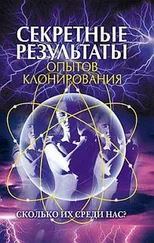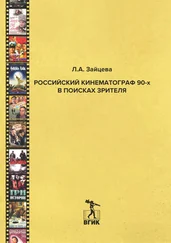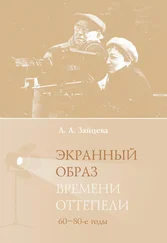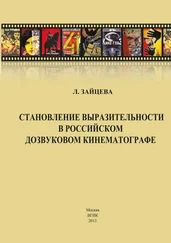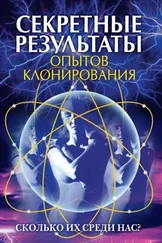1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Не менее характерна речевая манера и жесты главаря банды Жигана (М. Жаров). Достаточно сопоставить крупный план и укоряющие интонации Сергеева, вернувшегося из города в разорённую, виновато притихшую колонию, – и выразительность вороватого, затаённого торжества Жигана, шмыгающего носом, злорадно ухмыляющегося навстречу пришедшим на его пиршество колонистам… Жесты актеров, их поведение в кадре, пластика, выразительная мимика, говорящие детали (досадливо сдвинутая на лоб шапка Сергеева – молодцевато расправленная рубаха Жигана), – всё работает на смысловое противопоставление «нового» и «старого», на перепутье которого оказались ребята.
К жесту, мимике, работе с выразительной деталью – привычным средствам актёрской техники – фильм добавил характерные нюансы живой интонации, психологического переживания. Произнесенная актёром содержательная по смыслу лаконичная фраза столь существенно обогащает подтекст происходящего, что становится не просто фонетическим оформлением прежде немой реплики, а важнейшим компонентом драматургического развития конфликта. В этом глубокое отличие фильма от предыдущих звуковых картин начального периода.
Однако не всё, конечно, так благостно со звуком и в «Путевке…». Фильм всё-таки остался экспериментальным. Поиски более совершенного озвучания надо было продолжить.
Стоит приглядеться, в частности, к эпизоду, где мать Кольки (исполнительница этой роли Р. Янушкевич – сорежиссер картины) говорит отцу о своей тревоге за сына. В большой полупустой комнате как-то странно выглядит мизансцена: произносящая реплику актриса выходит в самый центр павильона и произносит слова отчетливо, внятно, интонационно нажимая при этом на смысловые моменты монолога. Всё объясняет несовершенство техники звукозаписи, на что сетовали многие мастера в те годы: стационарный микрофон устраивается в центре декорации (переносные «журавли» появились позже). Заботясь о чистоте записи, актёр встает в момент произнесения реплики непосредственно у микрофона (в этом эпизоде он замаскирован под «лампочку Ильича», сиротливо свисающую с потолка). Четкая артикуляция Р. Янушкевич, чуть замедленный темп произнесения фраз, усиление интонационных красок монолога сегодня легко воспринять как погрешности. По этим и подобным причинам многие из мастеров кино категорически отрицали говорящие фильмы, считая их откровенно ухудшенным театральным спектаклем и т. п. И с этим можно было отчасти согласиться, если иметь в виду утрату кинематографом искусства собственной мизансцены, органики речевого поведения персонажа, многие другие накладки первых лет освоения звука.
Однако именно «Путевка…» – и это одно из самых главных достижений на первых порах освоения звука – ввела разговорную речь в систему драматургического действия. Фильм превратил речь в неотъемлемую особенность индивидуальной характеристики персонажа. Впервые в нём, наряду со значением слова, в конкретизацию его смысла и роли активно включилась интонация, тембр, манера произношения, пауза, другие фонетические компоненты, отсутствующие в немом периоде.
Вместе с тем, многие технико-производственные вопросы решались, как и прежде, в процессе постановки. К ним добавились и новые творческие проблемы. Основная, объединяющая всех задача заключалась в том, как же разрешить противоречие теоретических установок (на контрапункт) и явную необходимость иллюстрирующих изображение звуков. Их предпочтительность во многих случаях совпадала с выявлением драматургического замысла.
К тому же ещё не пришло время расстаться с абсолютизмом монтажной выразительности и осознанием её новой роли в овладении звуко-зрительной образностью, возродиться – в исполненном долге или окрепнув для новых свершений. Такие схемы сюжетов потенциально содержали назидательную мораль.
Драматургический замысел, сценарный материал, естественно, оказываются в этой ситуации определяющими компонентами авторской трактовки действительности. Не монтажные сопоставления отдельных кадров, а целостные картины реальной жизни ложатся в основание событийной конструкции, воссоздающей логику самой истории.
Именно сценарий, сочинённая драматургом история обозначает отныне вектор поисков средств выразительности. Повествовательный сюжет плюс оптимизированные в свете завтрашней перспективы события на «говорящем экране» как раз и порождают, как ни парадоксально, эффект «поющей книги».
Читать дальше