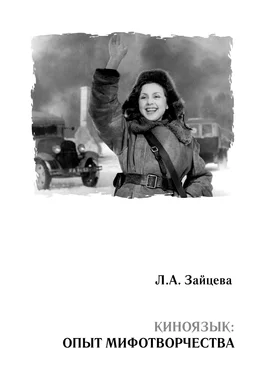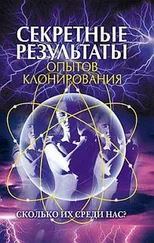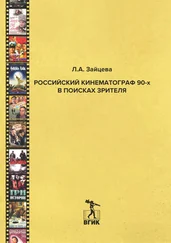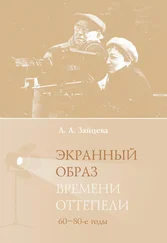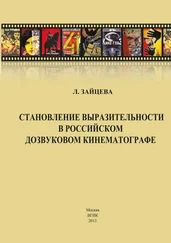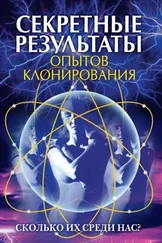1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 Самые ранние игровые ленты звукового кино представляют собой наглядный пример процесса освоения нового опыта – параллельно техническим экспериментам со звуко-зрительным синтезом рождаются драматургические модели мифологического свойства.
И при этом оказалось, что многие характерные признаки личности деятельного экранного героя в самых своих истоках, невольно как будто бы, соотносятся с типическими чертами персонажей, чудесным образом совершавших когда-то подвиги в сюжетах древней мифологии…
Речь о нарастающем равнодушии массового зрителя к новаторскому кино зашла ещё в конце 20-х гг… Уже тогда критики и теоретики ставили вопрос перед азартными реформаторами: какому зрителю адресованы фильмы, предлагающие сложные монтажные формы экранного языка, транслирующего идеологические установки советской власти?
В журнале «На литературном посту» (1930, № 3, февраль), анализируя в связи с этим проблемы стиля, автор (А. Михайлов) в статье «Воинствующая ограниченность» [12] Михайлов А. Воинствующая ограниченность / А. Михайлов // На литературном посту, 1930, № 3, февраль, с. 56–62.
рассматривает итоги дискуссии о путях развития советской кинематографии, проведенной ленинградскими кинематографистами и журналом «Кино и жизнь».
Отмечая в принципе низкий методологический уровень обсуждения проблем, А. Михайлов ставит вопрос о разрыве авангардного «левого» крыла и зрителей. Называя при этом А. Довженко, ФЭКСов и Ф. Эрмлера, особый упор критик делает на «символичность» их языка. Вопрос о сложности новаторских форм для зрительского восприятия не раз поднимал и Я. Рудой, имя которого часто встречалось на страницах киножурналов (статья «Наша кинематография и массовый зритель», против которой резко выступил А. Пиотровский). О реалистических формах мышления массового зрителя Я. Рудой, как можно судить, рассуждает довольно последовательно (Советский экран, 1929, № 37, другие публикации).
В ответ А. Пиотровский обвиняет Я. Рудого в тяготении к натуралистичности, настаивая на приоритете «диалектической формы». Спор идет, – возражает он, – «не о формах как таковых, а о мировоззрении, их определяющем. Задача искусства сейчас – утвердить форму, рождающуюся из мировоззрения художника-диалектика, стремящегося социально анализировать действительность и воздействовать на ее переустройство» [13] Пиотровский А. // На литературном посту. 1930, № 3, февраль, с. 62.
.
Я. Рудой, по мнению А. Пиотровского, вместо классового критерия выдвигает отвлеченную категорию – понятности («вообще»). Ратовать за «массового зрителя» – значит ориентироваться на «середняка». Это потребительская установка (довольно смелое, заметим, утверждение в свете рекомендаций об искусстве, понятном миллионам на Партсовещания 1928 года).
… Довженко, Эрмлер, – продолжает критик, – пользуются символическим приёмом не ради «выкрутас», а чтобы более объёмно дать образ непобедимости класса («Арсенал», «Обломок империи»). Разница не формальная. Можно говорить о неудачах в поисках, но опасно и вредно культивировать «киносередняк» (хотя при этом А. Пиотровский приветствует лозунг «искусство – массам»).
По существу, в подобных дебатах выдвигается проблема обновления форм, способных вместить новое содержание и ему, этому содержанию, адекватных. «Проблема нахождения соответственно этим задачам художественного метода, определения стиля пролетарской кинематографии на настоящем этапе развития – вот о чём нужно говорить в первую очередь» [14] Там же, с. 62
.
В самом конце декабря 1929 года (14-го и 21-го) в Доме печати состоялся диспут о кинокритике (Кино и жизнь, 1930, № 3, 21 января.), короткий отчёт о котором носит название «Передовые стычки».
Речь шла о самом существенном на данный момент противоречии – о «ножницах» между левой кинематографией и массовым зрителем. Спорили, в частности, о формализме. О «приспособленчестве», покрываемом левой фразой. О художественно-идейном содержании «левой» кинематографии и о законности самого понятия такой кинематографии. Говорили о теоретическом осмыслении и обобщении опыта кинотворчества. В частности, прозвучал серьезный упрёк в том, что теорию отдали на откуп формалистам.
На самом же деле, – подчеркивали выступающие, – идет серьёзная борьба между различными группировками в области содержания, формы, стиля. Критик Илья Трауберг (брат режиссёра-фэксовца Л. Трауберга) утверждал: не имея теории (перечня проблем, определения границ течений и т. п.), критика лишена серьёзной ориентации. Нет основательных трудов по теории кинематографии как искусства. В то же время совершенно очевидно, что нельзя расчленять социального и формального анализа.
Читать дальше