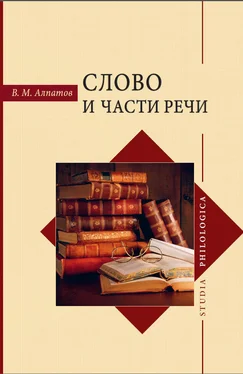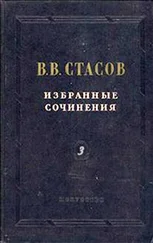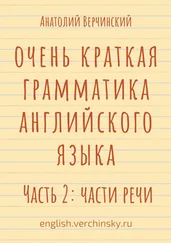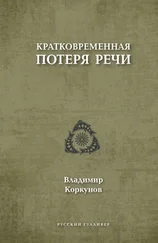Данный класс определений, как и предыдущий, имеет преимущество по сравнению с первым, поскольку здесь предлагаются или могут быть предложены критерии для членения на слова. По сравнению с предыдущим классом он в большей степени может сохранять традиционные представления о слове. Но его слабое место было отмечено А. И. Смирницким, спорившим с Л. В. Щербой: «Если “слово” будет совершенно разными единицами в разных языках, то почему вообще эти разные единицы можно называть словом?» [Смирницкий 1952: 183]. Тезис о разном значении термина «слово» в разных языках затрудняет сопоставление их описаний. И, как и в случае определений второго типа, требуются обоснования того, почему столь разные единицы занимают центральное место в «повседневном осмыслении языка». Чаще всего обоснований не бывает.
Наконец, четвертый класс определений, возможный только при последовательном отказе от словоцентризма, составляют определения, расщепляющие понятие слова на несколько единиц 9 9 Такое расщепление может проводиться различным образом. Концепции, рассматриваемые здесь, следует отделять от концепций, выделяющих единицы, различающиеся лишь степенью абстракции. К последним относится известное и ныне практически общепринятое в России разграничение словоформы и лексемы.
. Сюда относятся вышеупомянутые определения И. А. Бодуэна де Куртенэ, различавшего фонетические и семасиологически-морфологические слова, и Ш. Балли, противопоставлявшего семантему синтаксической молекуле 10 10 В одной из недавних публикаций двух швейцарских (то есть не англоязычных) ученых сказано, что фонологическое и синтаксическое слово впервые разграничил Р. В. У. Диксон в 1977 г. [Bickel, Zúñiga 2017: 160]. Вся предшествующая история такого разграничения в Европе и России полностью проигнорирована.
. Хотя определение слова в книге И. Ф. Вардуля 1964 г. относится к предыдущему типу, но и у него в книге 1977 г. слово расщепляется на две единицы: глоссему (по-прежнему выделяемую по морфологическим критериям) и синтаксему, представляющую собой сочетание знаменательной глоссемы с примыкающими к ней служебными; именно синтаксемы являются членами предложения. Синтаксема в данном смысле имеет сходство с семасиологически-морфологическими словами у И. А. Бодуэна де Куртенэ, но на И. Ф. Вардуля в данном случае, вероятно, повлияла и известная ему японская лингвистика, где две соответствующие единицы различаются (см. раздел 1.7).
Особенно последовательно расщепление слова на различные единицы еще более чем полвека назад провел С. Е. Яхонтов [Яхонтов 2016 [1963]: 109–116]. Согласно ему, за традиционным понятием слова скрывается пять разных по своим свойствам разноплановых единиц. Это графическое слово (традиционно выделяемое на письме), словарное слово (семантическая единица), фонетическое слово, флективное слово (последовательность, распадающаяся на корневую и формальную часть), цельное слово («группа морфем, которые не могут быть переставлены или раздвинуты без явного изменения их значения или нарушения связи между ними»). Эти идеи представляются автору данной книги очень важными [Алпатов 2016а; 2018], и я буду к ним возвращаться.
Подобные определения вовсе не означают обязательного отказа от понятия слова и исключения проблемы слова из лингвистики, в чем, на мой взгляд, необоснованно упрекали Ш. Балли независимо друг от друга И. Крамский [Krámský 1969: 9], И. Е. Аничков [Аничков 1997: 226] и В. Г. Гак [Гак 1990: 466]. Расщепление понятия и отказ от него – не одно и то же. Однако при таких подходах слово, не обязательно отвергаясь совсем, понимается максимально нетрадиционно. Явный разрыв с традицией – пожалуй, главный аргумент против данной группы определений (которые, разумеется, могут быть более или менее удачными). В то же время здесь получают объяснение отмечавшиеся выше несовпадения между разными аспектами слова. Преодолевается и неуниверсальность определений третьего типа (среди выделяемых единиц могут, впрочем, быть и неуниверсальные). Наконец, в отличие от других определений находят место в системе самые различные признаки и свойства, способные использоваться в определениях слова (тогда как при стремлении определить слово по одному признаку остальные могут остаться в тени). С. Е. Яхонтов, правда, опускал многочисленную группу определений слова как потенциального минимума предложения В рамках такого подхода возможно и моделирование традиционных представлений о слове, хотя и не достигающее полного совпадения с ними (но такого совпадения не происходит и при других определениях). Но доказать, что слово – главное понятие науки о языке, исходя из определений такого рода, нельзя. С. Е. Яхонтов писал: «Хотя все эти определения “слова” противоречат одно другому, они все – правильные, потому что все они отражают какие-то объективно существующие в языке (или письменности) явления. Кроме того, все эти определения – общелингвистические, то есть они исходят из фактов, наблюдаемых не в одном каком-то языке, а во многих языках разных типов. Напротив, “слово вообще” просто не существует» [Яхонтов 2016 [1963]: 114]. Однако вся европейская традиция исходила из «слова вообще».
Читать дальше