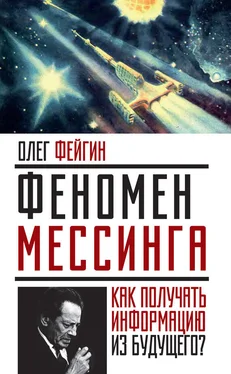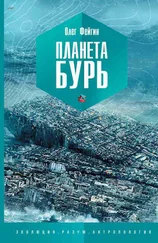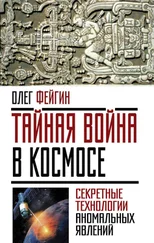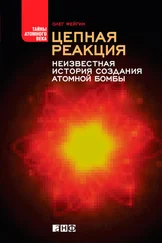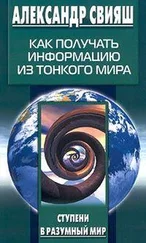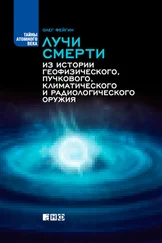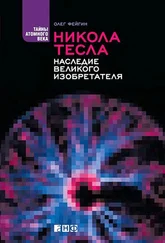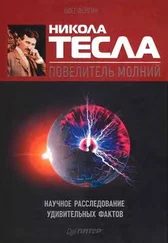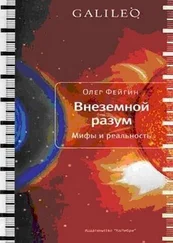Так закончилась первая история с пророчествами монаха Авеля, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Может быть, смысл прорицаний новоявленного пророка несколько прояснит последующая реакция «власть предержащих»?
6 ноября на трон взошел сын Екатерины – император Павел I, и тут же произошла «ротация» царедворцев, так что в сенате место генерала Самойлова занял князь А. Б. Куракин [1] 1752–1818 гг. – российский государственный деятель и дипломат, вице-канцлер, член Государственного совета (с 1810 года), действительный тайный советник. Действительный член Российской академии наук (1798 год).
. Знакомясь с материалами Секретного отделения, князь Куракин встретил упоминание о пророчествах монаха Авеля и, найдя дело «весьма конфузным и зело забавным», показал записи «пророка» самому императору.
Тут Ю. В. Росциус вводит в свое повествование новый персонаж как свидетеля начала провидческой карьеры Авеля – известного военного и государственного деятеля России времен Екатерины, Павла Первого, Александра Первого и Николая Первого – генерала от инфантерии и артиллерии Алексея Петровича Ермолова (1777–1861).
Одно время будучи под опалой, генерал был отправлен в ссылку в Кострому для дальнейшего следования на поселение в Макарьевские леса, в глухой острог на реке Унжа. Но сын костромского губернатора оказался сотоварищем Ермолова по учению, и в повеление были внесены хитрые коррективы. Так, Ермолаев остался в губернском центре «в целях более надежного наблюдения за ссыльным… и личного за ним присмотра». В то время Авель как раз монашествовал в монастыре Николая Чудотворца Костромской епархии. Это и отразил в своем дневнике опальный генерал:
«В то время проживал в Костроме некто Авель, который был одарен способностью верно предсказывать будущее. Находясь однажды за столом у губернатора Лумпа, Авель предсказал день и час кончины императрицы Екатерины с необычной верностью».
Не будем сомневаться в правдивости прямолинейного генерала, однако из дальнейших записей в том же дневнике становится ясно, что сам Ермолов на том губернаторском обеде, конечно же, не присутствовал, не рискуя тут же быть отправленным по месту ссылки… Значит, единственным источником тут мог быть его друг – сын губернатора, о котором он тут же отзывается как о «увлекающемся» и не равнодушном к «питейному зелью». Это, конечно же, во многом понижает правдивость сведений о предсказании монаха Авеля. Есть тут и еще одно соображение – кажется естественным, что за губернаторским столом обедали не только губернатор с сыном и монах, поэтому распространение столь крамольных сведений Авелем должно было бы быть решительно пресечено, хотя бы из соображений личной безопасности присутствующих. Вывод один: однокашник Ермолова пересказывал ему некие слухи, уже тогда кружившие вокруг странного монаха, но еще явно недостаточные для его отправки в Тайную канцелярию.
Впоследствии следователь спрашивал Авеля:
«Отобранные у тебя тетрадки, писанные полууставом, кто их писал, сам ли ты, и если сам, то помнишь ли, что в них написано, и если помнишь, то с каким намерением таковую нелепицу писал, которая не может ни с какими правилами быть согласна, а паче еще таковую дерзость, которая неминуемо налагает на тебя строжайшее по законам истязание? Кто тебя к сему наставил и что ты из сего себе быть чаял?»
На что монах простодушно отвечал:
«Ныне я вам скажу историю свою вкратце. Означенные полууставные книги писал я в пустыни, которая состоит в Костромских пределах близь села Колшева, и писал их наедине, и не было у меня никого мне советников, но все от своего разума выдумал…».
Тут же следует вопрос:
«Для чего и с каким намерением и где писал ты найденные у тебя пять тетрадей или книгу, состоящую из оных?»
И Авель пространно рассказывает:
«В каком смысле писал книгу, на то говорю откровенно, что ежели что-нибудь в рассуждении того солгу, то да накажет меня все милостивейшая наша Государыня Екатерина Алексеевна, как ей угодно; а причины, по коим писал я оную, представляю следующия: 1) уже тому девять лет, как принуждала меня совесть с появления голосов и видений, всегда и непрестанно об этом гласе сказать Ея Величеству и их высочествам, чему хотя много противился, но не могши то преодолеть, начал помышлять, как бы мне дойти к Ея Величеству Екатерине Второй; 2) указом ведено меня не выпускать из монастыря и 3) ежели мне так идти просто к Государыне, то никак не можно к ней дойти, почему я вздумал написать те тетради и первыя две сочинил в Бабаевском монастыре, а последние три в пустыни».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу