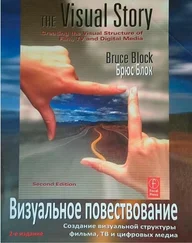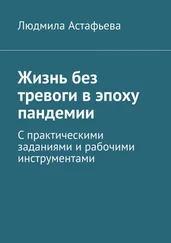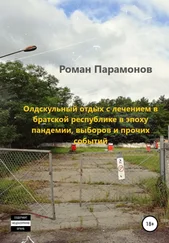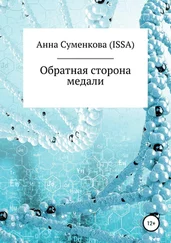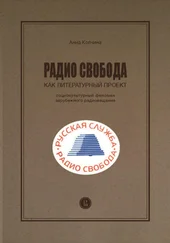Гельман В. (2019) «Недостойное правление». Политика в современной России. Санкт-Петербург: Изд-во ЕУ СПБ.
Мюллер Я.-В. (2018) Что такое популизм. М.: ИД НИУ ВШЭ.
Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. (1998) Четыре теории прессы. М.: Международный институт прессы, Изд-во «Вагриус».
Кандидат филологических наук, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ
Танцы с коронавирусом: динамические изменения языка российского телевидения в период первой волны пандемии (на примере информационного и общественно-политического вещания, февраль – май 2020 года)
Происходящее с миром, с нами и с медиа в этом шальном 2020-м не совсем укладывается в рамки традиционного научного текста. Случившийся глобальный сдвиг баланса между цифровым и физическим нарушил естественное проявление биологического. Наше социальное и физическое пространство сжалось, но наше цифровое пространство невероятно расширилось. Впервые за многие десятилетия многие люди вынуждены ограничить передвижение и «самоизолироваться», а время самозаточения никак нельзя сократить. Мы все оказались в кругах созависимости. Пандемия испытывает на прочность человеческое сочувствие и соучастие, а все системы мироустройства на адаптивность к изменениям. Вот почему метафора танца кажется уместной. Следовать, подчиняться, сопротивляться, нащупывать, менять направление, импровизировать, в конечном счете – кооперироваться и адаптироваться: в этом, кажется, и есть суть движения в ситуации глобальной и личной неопределенности.
11 марта 2020 ВОЗ объявила пандемию коронавируса. С 15 марта 2020 и до отмены режима самоизоляции в Москве 8 июня 2020 на свой странице в Facebook я стала вести «карантинные телехроники» (хештег #карантинсмедиа, в тексте ниже эти посты из моего аккаунта приведены более мелким шрифтом), несколько раз в неделю фиксируя реакции людей и многих закрывшихся институций, на наших глазах превратившихся в «я-медиа» вещателей.
Происходящее в эти два с половиной месяца с/на ТВ важно было зафиксировать по нескольким причинам:, в тексте ниже
– граждане, государства и медиасистемы, как важнейшая часть глобальных и национальных коммуникаций, оказались в принципиально новой ситуации – ситуации инфодемии;
– во время повсеместных локдаунов и карантинов, когда сотни миллионов людей участвовали в глобальном эксперименте жизни «на удаленке» (работа, образование, досуг), произошел существенный всплеск интереса к ТВ по сравнению с постоянно падающим на протяжении предыдущих нескольких лет телесмотрением (время просмотра ТВ в первый месяц каникул-изоляции в России увеличилось на 25%, по данным апрельского Медиаскопа);
– два первых федеральных канала – универсальные с точки зрения программирования, – в основном, имеют дело со взрослой и пожилой аудиторией, которая оказалась наиболее уязвимой для болезни и испытывала повышенный стресс из-за карантинных мер (запреты, изменения распорядка и образа жизни, одиночество, невозможность освоить цифровые предписания и инструменты);
– телевидение, которое не может «встать на паузу», «с колес» осваивало гибридные форматы, меняло программную сетку и лица, масштабно включало в эфир домашние стримы отправленных на удаленку ведущих и корреспондентов, демонстрировало «сетевое творчество масс» и контент многих культурных институций, закрывшихся для посещений, а также марафоны, акции, концерты в поддержку врачей и уязвимых групп населения.
Был и антропологический интерес – через несколько месяцев после «первой волны» посмотреть на собственную оптику периода высокой неопределенности. Став «наблюдателем наблюдателей» с естественным ограниченным сектором обзора, попробовать сравнить «коды» первой реакции на репрезентируемое в новостях и общественно-политических телевизионных форматах с уже более-менее выработанным телевидением «кодом» на вызов «инфодемии» спустя полгода.
Думается, этот гибридный формат сетевых хроник – посты в фейсбуке с последующим научным комментарием, – в каком-то смысле, тоже отражение нашего пересобираемого времени.
«Хроники» разделены условно на два периода: с объявления пандемии ВОЗ 11 марта и до объявления «режима самоизоляции» в Москве 30 марта; и собственно время карантина – с 30 марта до снятия режима 8 июня.
Прежде, чем анализировать трансформацию «повестки дня» и то, как менялся экранный язык информационного и общественно-политического вещания основных федеральных каналов, важно зафиксировать информационный фон конца февраля – первой декады марта (до того, как в мире была объявлена пандемия, а в столице России уже стало невозможно не сообщать о стремительном увеличении случаев заражения).
Читать дальше
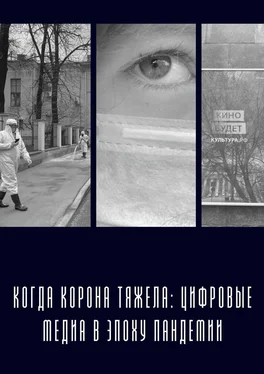
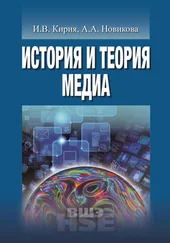

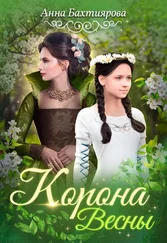
![Анджей Беловранин - Мир, поставленный на паузу. Страхи, надежды и реальность эпохи коронавируса [Страхи, надежды и реальность эпохи коронавируса] [litres]](/books/396498/andzhej-belovranin-mir-postavlennyj-na-pauzu-stra-thumb.webp)