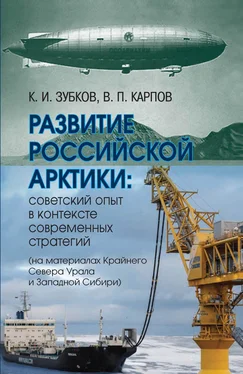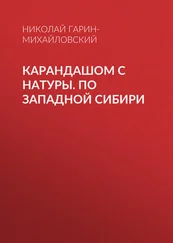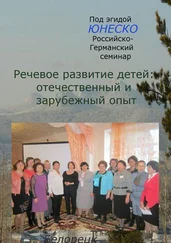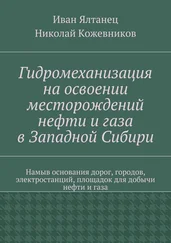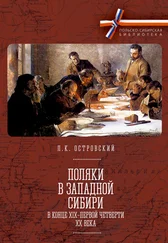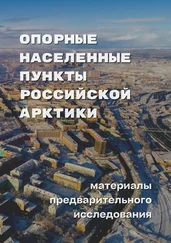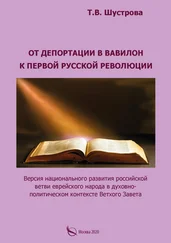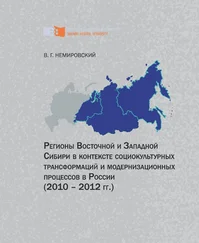В этой политике нельзя видеть что-то исключительное. Нечто похожее, как отмечает норвежский историк У. Ристе, было характерно для датских королей Кристиана IV и Фредерика III, которые проявляли свой «имперский» инстинкт после проигранных войн с Швецией тем, что предпочитали делать территориальные уступки победителю за счет Дании, а не Норвегии, которая, являясь их наследственным владением, была для них гораздо ценнее как территориально-силовой ресурс, подкрепляющий «независимость» королевской власти перед лицом крупных феодалов – членов Государственного совета, владевших землями в основном на датской территории [44] Ристе У. История внешней политики Норвегии. М., 2003. С. 50.
.
4) В XVI–XVII вв. российский Север переживал по-своему уникальный период в своем развитии, который, благодаря развернувшейся эпопее Великих географических открытий , отмечен его ранним, но весьма неустойчивым вхождением в формирующуюся глобальную структуру «мир-системных» отношений. Первоначальной и поразительной по силе мотивацией к тому, как известно, послужили настойчивые поиски западноевропейскими морскими державами «второго эшелона» (Голландия, Англия, Франция) т. н. Северо-восточного прохода в Индию, Китай и к легендарным Молуккским островам («Островам Пряностей») как альтернативы монопольному контролю португальцев и испанцев над важнейшими морскими подступами к азиатской континентальной массе. Это и предопределило стремительное по меркам того времени расширение географии этих поисков и следовавшей за ними колониальной торговли, что и дает исследователям основания считать эту волну активности первой «глобализацией». Подчеркнем, что речь в данном случае идет о действии структурных зависимостей глобального уровня, которые «управляли» активностью западноевропейцев безотносительно к историческому движению России в северо-восточном направлении. Можно лишь – вслед за Х.Дж. Маккиндером – действием единого закона экспансии объяснить отдаленную «корреляцию» между первыми заморскими завоеваниями португальцев и испанцев и походом Ермака в Сибирь как двумя типами исторической мобильности – морской и сухопутной [45] Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History // The Geographical Journal. 1904. April. Vol. 23. № 4. P. 421–422.
или вслед за Ф. Броделем объяснить связь между «изобретением Америки» европейцами и «изобретением Сибири» русскими специфическим давлением на «окраины» Европы общих потребностей роста европейской экономики и расширения международной торговли [46] Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. М., 1992.С. 468.
. Но и в том, и в другом случае речь идет скорее о параллельных усилиях, чем о чем-то, напоминающем совместное предприятие. Лишь на российском Севере эти два отдельных потока экспансии были приведены географией в непосредственное соприкосновение, а затем и в известный резонанс. С учетом этих обстоятельств рассказ русского посла в Риме Дмитрия Герасимова писателю Павлу Иовию Новокомскому о возможности пройти в Китай через «северное море» (1525 г.) можно считать скорее удачным «информационным поводом» к организации первых западноевропейских экспедиций на поиски Северо-Восточного прохода, чем их первопричиной.
Значение такой информации, конечно, не стоит недооценивать. В числе еще более ранних западноевропейских ссылок на успехи ознакомления русских с районами Арктики Л.С. Чекин упоминает датируемое 1493 г. письмо Нюрнбергского врача Иеронима Мюнцера португальскому королю Жуану II, в котором сообщается об открытии «немного лет тому назад» (!) подданными «великого герцога» Московии под «сухою звездой арктического полюса» большого населенного острова «Груланд», имеющего длину береговой линии в 300 лиг [47] См. об этом: Чекин Л.С. Открытие арктического острова русскими мореплавателями эпохи Колумба (Сводный анализ источников) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 3. С. 3–42.
. Появление этого известия в письме, призванном убедить португальского монарха обратиться к поиску пути через Атлантику в «Восточный Китай», может в какой-то мере служить указанием на попытки просвещенных европейцев подстегнуть таким образом дух соперничества в географических открытиях, в частности в прокладке торгового пути к вожделенным богатствам Индии и Китая. Исследователь, по-видимому, прав, полагая, что упоминаемый в письме арктический остров не может в полной мере быть отождествлен ни с Новой Землей, ни с Гренландией, ни со Шпицбергеном (Грумантом) и что скорее всего в данном известии в искаженном виде отражен этноним «угры», «Югра», связываемый с нижним течением Оби (т. е. Груланд как «земля угров») [48] Там же. С. 23.
. Это предположение можно считать убедительным, если учесть, что за десять лет до времени написания письма, в 1483 г., состоялся большой поход московских воевод князя Федора Курбского-Черного и Ивана Ивановича Салтыка-Травина, которые, пройдя по Пелыму, Тавде и Иртышу, «Сибирьскую землю воевали», а затем выйдя «на Обь реку великую, в Югорскую землю, князеи Югорских воивали и в полон повели» [49] ПСРЛ. Т. 37. С. 49.
. Совершенный московскими ратями по речным магистралям «круговой обход» Югорской земли (которая, заметим, еще отчетливо отделяется от «Сибирской земли» и могла бы поэтому считаться вновь открытой), действительно, создает впечатление «инсулярности» вновь приобретенной территории.
Читать дальше