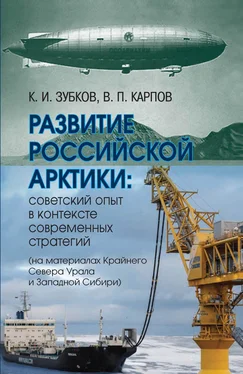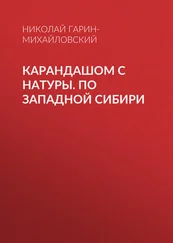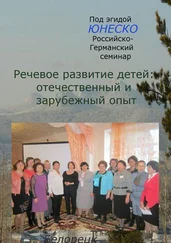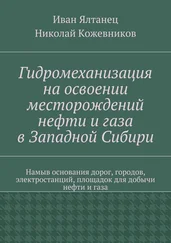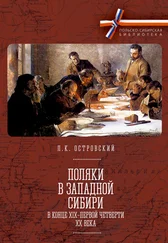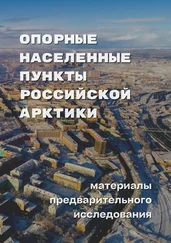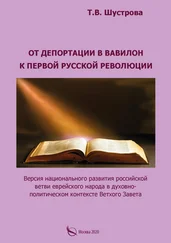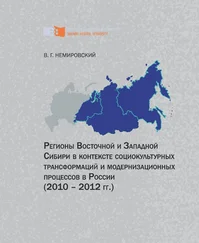1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Заметим, что и позднее, в период присоединения Сибири к Русскому государству, ее северные окраины, прежде всего – обращенные к Ледовитому океану речные магистрали, обеспечивали первым немногочисленным партиям русских первопроходцев наиболее безопасные, по сути, «тыловые» маршруты отхода из зоны непосредственного соприкосновения со степняками. Как сообщает Есиповская летопись, после гибели Ермака остатки его отряда, остававшиеся в Искере («граде Сибири») (по-видимому, вместе с людьми воеводы Ивана Глухова), «видяше, яко наставника злочестивыи тотаровя убиша и з дружиною его, с прочими казаками, и убояшася жити во граде, изыдоша из града тай поплыша вниз по Иртишу и по великой Оби, и через Камень бежаша к Руси» [32] ПСРЛ. Сибирские летописи. Группа Есиповской летописи. Т. 36. Ч. 1. М., 1987. С. 63–64.
. Уходили казаки из Сибири, как уточняется в Сибирском летописном своде, хорошо знакомым русским людям северным путем: «Обию до реки Соби, и через Камень». В 1585–1586 гг. тем же маршрутом, но с зимовкой в устье Иртыша, у Белых гор, совершил отход на Русь и отряд воеводы Ивана Мансурова [33] Там же. С. 64–65, 185.
.
Стратегическое значение севера Западной Сибири существенно повысилось в 1590-е гг. – в период активного создания опорной сети русских острогов в этом регионе. В 1593 г. воеводой князем Петром Горчаковым был основан и заселен ссыльными угличанами Пелымский острог; в этом же году воеводы Никифор Траханиотов и князь Михаил Волконский поставили в нижнем течении Северной Сосьвы Березовский острог. В 1594 г. во владениях остяцкого князя Бардака построили Сургутский острог, куда был переведен гарнизон упраздненного царским указом Обского городка [34] Там же. С. 139–140.
. В 1595 г. казаками и стрельцами под главенством Никифора Траханиотова на месте туземного Носового городка был построен Обдорский острог [35] Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032–1882 гг. Сургут, 1993. С. 48.
(хотя, строго говоря, единой версии относительно точного времени основания Обдорска пока не существует).
2) Север в эту эпоху русской истории выступает не только пространственным резервом, но и емким ресурсным тылом , позволявшим в конечном счете преобразовать окраинное положение страны в «наступательную» позицию или по крайней мере компенсировать иные стратегические слабости и уязвимые места в геополитическом положении Русского государства. Лежащие к востоку от Печоры богатые пушниной и морским зверем северные территории стали мощным катализатором развития торговых и дипломатических связей России со странами Западной Европы, способствуя повышению международного престижа Русского государства и его включению в систему европейских отношений. Сведения о принадлежащих России островах на северном «море-океане», «где водятся кречеты и соколы-пилигримы», вывозимые отсюда «по разным странам света», и о поразительном изобилии дорогих мехов, добываемых в соседней с Россией «стране Тьмы» и также в больших количествах поставляемых на внешние рынки, содержатся уже в сочинении Марко Поло «О разнообразии мира» (1298 г.) [36] Книга Марко Поло. Алма-Ата, 1990. С. 208.
, ясно свидетельствуя о довольно раннем включении Русского Севера в международные торговые связи.
Растущий спрос на пушнину северных районов Сибири на рынках Запада и Востока дал значительный толчок сначала землепроходческой активности предприимчивых феодалов, купцов и промышленников, а затем и «предпринимательству» на этом поприще самого государства. Вступление его в прибыльное дело эксплуатации сибирских ресурсов с конца XVI в. дало, по словам С.В. Бахрушина, «новый оборот» всей политике захвата зауральских земель [37] Бахрушин С.В. Научные труды. Т. IV. М., 1959. С. 9.
. Товарные ресурсы, поступавшие в казну от непосредственной эксплуатации государством инородческого населения северных и восточных территорий, в частности сибирская пушнина, составлявшая своеобразный «валютный резерв» государства, активно использовались в торговле с Западом. Получаемые в итоге богатства расходовались не только на удовлетворение потребностей господствующего класса, но и на проведение в жизнь широкой программы общегосударственных мероприятий, включая военное строительство и реализацию целей внешней политики. Эту сторону сибирской пушной торговли особо отметил американский историк Н. Фрейшин-Чировски: «Доходы от пушной монополии и ясака не только финансировали содержание сибирской администрации, но и доставляли центральному правительству значительный избыток для оплаты других общественных начинаний» [38] Freishin-Chirovsky N. The Economic Factors in the Growth of Russia: An Economic-Historical Analysis. N.Y., 1957. P. 97–98.
. Монопольное положение казны в развивающейся торговле с Западом отнюдь не отменяло важности последней для развития русского предпринимательства. Из доходов от «мягкой рухляди», в частности, кредитовалось московское купечество, торговавшее с Персией и Западной Европой [39] Бахрушин С.В. Научные труды. С. 11.
. Само открытие Русского государства Западной Европе и установление с ней прочных торговых и дипломатических связей произошло под мощным давлением коммерческого интереса европейцев к скупке мехов на русских рынках или достижению «соболиных» мест. Высокий спрос на пушнину позволял довольно отсталой в то время – по сравнению с Западной Европой – России расширить свои международные экономические позиции, избегнув окончательного оттеснения на периферию европейской цивилизации, т. е. решить жизненно важную для ее государственного существования историческую задачу. В контексте русско-западноевропейских отношений земли Сибири и Севера уже к началу XVII в. фигурировали в числе наиболее доходных и стратегически ценных для Русского государства территорий. Голландец Исаак Масса сообщал, что после убийства Лжедмитрия в мае 1606 г. бояре, сторонники Василия Шуйского, объясняя народу причины низвержения самозванца, инкриминировали ему, среди прочего, заключение с «воеводой Сандомирским» Юрием Мнишеком договора, по которому он, самозванец, сыну воеводы, брату царицы, обещал «отдать всю землю Сибирь, а также Самоедскую и соседние земли» [40] О начале войн и смут в Московии / Исаак Масса. Петр Петрей. М., 1997. С. 125.
.
Читать дальше