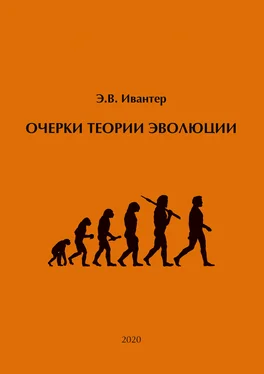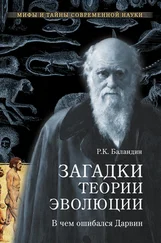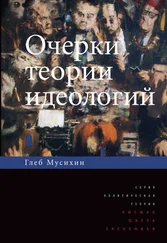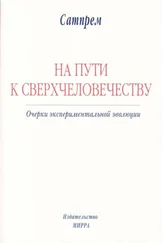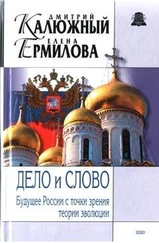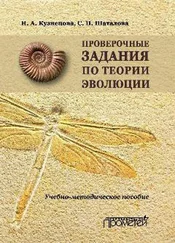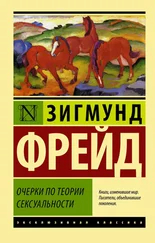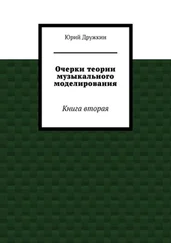При этом он допускает, что породы домашних животных были выведены человеком. Основными причинами изменений он считал влияние климата и пищи. Но есть у него и указания на роль искусственного отбора: «Если по случаю, довольно обыкновенному в Природе, обнаружатся одно отличие или явные изменения в некоторых признаках, люди стараются их сохранить, как и ныне делают, когда хотят создать новые породы собак и других животных». При этом, несмотря на очень сильные различия между породами, они не могут рассматриваться как разные виды, поскольку могут свободно скрещиваться между собой, что, по его мнению, является «единственным врожденным свойством вида». Разные виды при скрещивании либо вообще не дают потомства, либо их потомки оказываются бесплодными.
Однако впоследствии его взгляды изменились. В 1766 г. он публикует приложение к XIV тому «Естественной истории», которое называлось «Дегенерация животных», где формулирует теорию трансформизма. Согласно его представлениям, виды, объединяемые в настоящее время в одно семейство, произошли от общего предка. Так, от одного общего предка могли возникнуть лошадь, зебра и осёл, от другого – бык, буйвол и зубр и т. д. «В таком семействе обычно отмечают один общий основной ствол, от которого как бы выходят различные ветви, тем более многочисленные, чем более плодовиты и более мелкие по размерам индивиды каждого вида».
Основной причиной трансформации видов Бюффон считал прямое воздействие климата и пищи. Однако его представления о механизмах трансформации крайне наивны и не могут не вызвать улыбки у современного читателя. Так, обсуждая вопрос о влиянии пищи, он пишет: «Олень, обитающий в лесах и питающийся, так сказать, деревьями, носит на голове подобие растений, которое есть не что иное, как остаток сей пищи. Бобр, живущий в воде и питающийся рыбой, имеет хвост, покрытый чешуей. Следовательно, можно предполагать, что животные, которым бы всегда давали одинаковую пищу, в короткое время приняли бы некоторые качества этой пищи, и что если бы всегда продолжать давать им одинаковый корм, присвоение питательных частиц привело бы к изменению облика животного».
Не менее наивно выглядит и объяснение влияния климата: «В Америке, где жара не столь велика, где воздух и почва прохладнее, чем в Африке на той же широте, тигр, лев и барс ничего не имеют страшного, кроме названия. Они не беспредельные властелины лесов, а животные, обычно скрывающиеся от взора людей… Под кротчайшим благорастворением воздуха они сделались кроткими: что было в них излишнего, стало умеренным, и через перемену, которую они испытали, сделались они более согласными в нравах населяемой ими стране».
Теория Бюффона, получившая название теории трансформизма, еще не была эволюционной теорией. Во-первых, он предполагал, что существующее многообразие живых существ возникло из немногих, уже высокоорганизованных видов, а во-вторых, рассматривал процесс трансформации видов не как прогресс, а как вырождение (дегенерацию). Однако сама идея изменяемости видов, впервые выдвинутая Бюффоном, постепенно, благодаря необычайно высокой популярности «Естественной истории», постепенно становилась популярной и, в конце концов, привела к созданию эволюционных теорий.
В настоящее время противоречие между Линнеем и Бюффоном кажется нам довольно странным. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что нужны как диагнозы (для ориентации в системе и быстрого определения видов), так и подробные описания. Выдающийся русский зоолог П.-С. Паллас, у которого в кабинете рядом висели портреты Линнея и Бюффона, писал: «И тот и другой, к счастью для естествознания, появились в одном и том же веке, чтобы наука, идя по стопам этих исполинов, продвигалась к совершенству, хотя и разными дорогами. Один со своим систематизирующим умом ввел порядок и точность в науку и работал всю жизнь с удивительным прилежанием, чтобы умножить наши знания об организмах. Другой… почти исчерпал естественную историю четвероногих, ввел в область науки философский дух и прелестью своего красноречия заставил общество полюбить науку. Если бы каждый из них не встретил себе противовеса в своем современнике, то, пожалуй, ввел бы в науку воззрения, более трудные для преодоления».
В течение более ста лет «Естественная история» Бюффона была настольной книгой не только ученых-зоологов, но и самого широкого круга читателей, интересующихся природой. Это значение она утратила лишь после выхода в свет знаменитой книги немецкого зоолога, директора Гамбургского зоопарка Альфреда Брема (1829–1884) «Жизнь животных» (первое издание было в 1863–1869 гг.). Путешествуя для отлова животных для зоопарка по Египту, Нубии, Судану, Абиссинии, Испании, Норвегии, Западной Сибири, Брем собрал большой оригинальный материал по биологии животных. «Естественная история» Бюффона, составленная в значительной степени (все разделы, касающиеся экзотических животных) не на оригинальных наблюдениях, а на литературных данных, к тому же устаревшая за сто лет, не могла выдержать конкуренции с «Жизнью животных» Брема.
Читать дальше