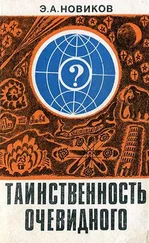Но вместе с тем, большой город был полон соблазнов, оставшихся сильными даже после появления первого в столице Макдональдса, первых порножурналов и первых юных проституток, налаживавших тогда свои некрепкие связи со специалистами в области построения демократии. По прошествии достаточного количества лет, и после опыта жизни в нескольких странах, я могу говорить с уверенностью, что страна, где я родился, была самой загадочной и непонятой страной минувшего века. Она установила особые, еще никем не осознанные связи с человеческой природой, ей удалось узнать что-то такое, с чем просто жить и умирать было немыслимо. В политических режимах, через которые эта страна сумела пройти, содержался, вероятно, ее способ защиты от приобретенного ею знания о человеке. В одно и тоже время понять человека и сделать его счастливым исключено, на это не хватит никакого волшебного состава, включая божественный. Крах, который потерпела страна моего рождения, на самом деле имеет гораздо меньше политических причин, чем это кажется на первый взгляд. Жиль Делез и Феликс Гваттари справедливо писали о том, что политика функционирует согласно желанию желания, которое себя в политике воспроизводит. Но в этом процессе всегда получаются какие-то остатки, из-за чего все и случается не так, как того хотят. Однако, причина может быть и в другом. Подлинное желание порождается не объектом или его отсутствием, а возможностью его существования или, если воспользоваться термином Аристотеля, – энтелехией желания. Его исполнение, как правило, обещает трагические последствия. Самым прозорливым из всех оказался Ницше, пообещав страшный век, он принял собственное безумие как способ не остаться в свидетелях. Ведь так никто и не знает, и не узнает никогда, что именно происходило, о чем думал и чем был занят философ на пенсии, когда он мирно проживал пятую часть жизни под чутким надзором психиатров. Был ли Ницше волшебником от философии, который раньше всех понял и пришел в ужас от настоящего желания человека? Скорее всего, он понял власть и силу тех, кто в своей жизни рискнул желать. Но и этого было достаточно для того, чтобы попробовать объясниться, – а значит написать еще один небольшой текст, – со всеми, кто после его смерти возжелал приобщиться к кругу почитателей. Слепые и безумцы не выбирают себе друзей, последние сами их находят. Так вот, то был крах желания, которое отнюдь не в нашем столетии возникло. И как всякое подлинное желание, оно оказалось обреченным на уничтожение уже только одной идеей своего исполнения.
Вернемся к соблазнам. Под ними я подразумеваю целый ряд крупных публичных библиотек, выставленных в пространстве Москвы под дорогими пролетарской культуре именами. Эти библиотеки были сакральными местами. В них хотел попасть каждый интеллектуал, особенно в том возрасте, когда первое любовное переживание чудесно сочеталось с официальным запретом на самостоятельную покупку алкоголя. Попасть в библиотеки было делом не легким, но, при особом рвении и удаче, возможным. Там происходило то, что с полным правом можно было бы назвать Чтением, чтением как модусом существования. С чем это можно было сравнить? Когда молодой тибетский пандит, много времени изучавший диалектику, логику и искусство спора, наконец-то оказывается допущенным к речевому состязанию с таким же, а то и с более опытным партнером, и когда ему предстоит публично отстоять свою позицию относительно, скажем, понятия шуньяты, то он, наверное, должен испытывать чувство похожее на то, которое испытывал советский школьник или студент, вдруг попадавший в атмосферу многомиллионного книгохранилища. Попав туда, я читал «Феноменологию Духа» Гегеля, читал Фихте и Гельдерлина, Руссо и Вольфа, Гумбольдта и Элизабет Ферстер-Ницше, читал Энгельса и брошюры Ленина о революции и НЭПе, еще читал Шопенгауэра, который, в отличие от Фридриха Ницше и Фрейда, не заслуживших, по всей видимости, доверие у пролетариата, и по явному недосмотру администрации, выдавался без спецразрешения. Мне хотелось стать философом.
Прощение составляет часть моей биографии, часть моей жизни. Нет сомнений, что оно является частью любой жизни, любой биографии. Прощение есть особая форма интимности, интимности всех со всеми, публичной интимностью, находящейся под постоянным контролем. Прощение понуждает меня к такому интимному общению с обществом, с теми другими, которые мне известны, известны плохо или не известны вообще. С другими, которые что-то ждут от меня, от которых что-то жду я, с другими, которые от меня ничего не ждут и от которых ничего не жду я, не хочу ничего ждать, пытаюсь их забыть, убедить себя, что их нет, что для них нет меня, что их присутствие мне безразлично и что до моего присутствия им также нет никакого дела. Прощая, я убеждаюсь в обратном. Приходит понимание того факта, что прощение незыблемо, оно повсюду, его не обмануть, от него не отказаться и не скрыться. Но несмотря на это, я пытаюсь его уничтожить, я делаю это потому, что мое желание раскрыть вечную концептуализирующую природу этого действия сильнее, чем мое желание прощать и быть прощаемым. Понять необходимо не то, почему мое существование без прощения немыслимо, – в этом не так сложно разобраться, – а то почему, когда я прощаю или прошу прощения, я перестаю существовать. Почему, стало быть, прощая, я попадаю в тотальную зависимость от другого, – другого или Другого в равной степени, – того другого, которому я принесен в жертву еще не родившись, другого, требующего меня себе в жертву даже после моей смерти.
Читать дальше