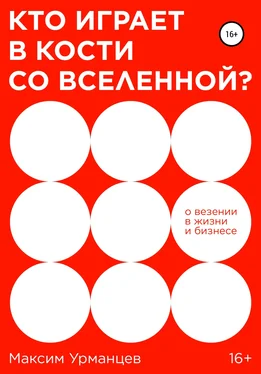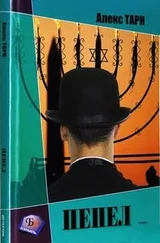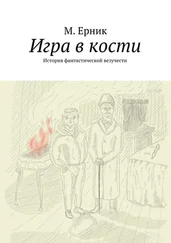– Чем это?
– Что мне платил зарплату, я практически ничего не делал.
– Чего удивительного? Я тебя нанял, обещал оклад, должен платить.
– Это в советские времена рабочего нельзя оставить без зарплаты, а сейчас другая жизнь: нет работы – нет денег.
Я задумался. Действительно, адекватно ли я платил за простой? Мои коллеги-предприниматели часто игнорировали интересы рабочих. Наверное, в первую очередь мое сердобольное поведение объяснялось правилом «обещал – выполняй». Это уже потом я понял, что можно договариваться об условиях: «если есть работа – плачу столько, если простой – половину». И обычно рабочие соглашаются. Тогда такого опыта я не имел. Во-вторых, у меня остался догмат из прошлой жизни, что рабочий человек – звучит гордо, он – кормилец семьи, он не может остаться без зарплаты. Возможно, это был не догмат, а «социалистический задвиг». И, в-третьих, я старался следовать науке управления (именно старался, а не пунктуально следовал). Не то чтобы много, но почитывал книги по менеджменту. Кроме переводных западных, других не продавали. Они наперебой расхваливали демократичный стиль управления и хаяли авторитарный: надо заботиться о сотрудниках, прислушиваться к их мнению. Тогда я не мог догадаться, что для западного человека такая категория, как «беспрекословное выполнение указаний начальника», давно вошла в кровь и плоть, там уже пропагандировали поворот в либеральную сторону. Наш же, российский человек еще не пропитался исполнительской дисциплиной, как основой организации труда, не отошел от мыслей по типу: «работа не волк – в лес не убежит», «не гони с производительностью – поднимут нормативы», «работодатель делает вид, что платит, а рабочему надо делать вид, что работает» и т. д. Для этого надо пропитаться духом капитализма хотя бы одно поколение. То, что демократический стиль – это обратная сторона исполнительской дисциплины, я не понимал, книги про либерализм мне путали карты. Мое управление стало кособоким.
Но забегая вперед, отмечу, что рабочие, при всех сложных с ними отношениях, пользовались моим стилем, но меня не подставляли. Возможно, не только Сашок, но и другие, которых за двадцать семь лет встретилось на пути более тысячи человек, чувствовали мои социалистические «задвиги» и симпатизировали им.
* * *
Уже много раз употреблял слово «ответственность». Ключевое понятие. И еще раз хочу спеть песню этому особому отношению между намерениями и поступками человека.
В бизнес-жизни приходится не просто принимать решения, а принимать часто. Любой, пусть самый простой, выбор на развилке – это трата сил. За решением тут же появляется ответственность. Когда количество развилок в единицу времени зашкаливает – вот тогда и устаешь. Метафора о том, что каждая маломальская ответственность – дополнительный груз на шею, который надо нести неопределенно долго, – верная. Много решений – много ответственности – много усилий, чтобы их тащить. Человеку хочется остановить поток.
Мое свойство быстро выбирать путь на развилке облегчало ношу. Даже в продуктовом магазине я стараюсь быстрее набросать товары в корзину, не глядя на ценники и сроки годности, оплатить и сбежать из ситуации выбора. Поэтому я не тормозил и быстро принимал бизнес-решения. В том числе по этой причине чаще других влезал в рискованные проекты. Тащить проект все равно придется, но хотя бы не мучить себя выбором. В моем случае получилось, что БЫСТРО и ЛЕГКО брать на себя риски – позитивное качество. Но у других это может иметь плохие исходы. Плюсы очевидны: дело не вязло в сомнениях-колебаниях, а шустро тянулось к солнцу. Это свойство я получил по наследству от деда и отца и подкрепил опытом шахмат: там почти каждый ход – это выбор. Особенно при игре в блиц – там вообще на раздумья даются секунды.
Минусы этой легкости тоже есть. Мои подчиненные приходили ко мне с любыми проблемами, даже теми, которые могли решить сами. И я отвечал, и брал ответственность с удовольствием, укрепляя себя в собственной оценке, но не давая наработать навык заместителям. Что провоцировало инфантилизм подчиненных. Со временем такой подход превратил мой стиль управления в патерналистский. Я становился «отцом солдатам». Это хорошо и плохо одновременно.
Но главный минус быстроты решения – качество. Быстро, значит, необдуманно. Я это понимал. И опять шахматы – опыт интуитивных ходов. Для меня такой выбор настолько органичен, что, видимо, прописан на лбу как кредо – «всегда». Один раз директор-конкурент на отраслевой пьянке проболтался: «Я наблюдаю за тобой, Максим, и поражаюсь твоей интуиции. Более того – боюсь ее. Это очень сильное преимущество». Я воспринял это как комплимент.
Читать дальше