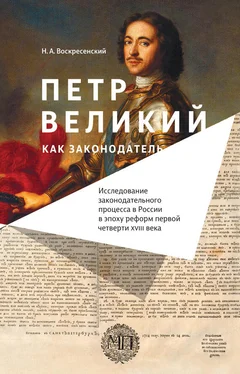Взгляд этот, если отбросить некоторые крайности и односторонность, можно признать в некоторых отношениях правильным. Однако из высказываний В. О. Ключевского наибольшее сочувствие у его учеников и последователей встретили те именно суждения, которые отрицали творческое воздействие Петра на современную ему жизнь, что вызвало у них мнения еще более резкие и категорические. Вследствие этого они отошли еще дальше от истины и уже впали в противоречия с источниками. Это тем более неожиданно, что оба серьезных автора, которых мы имеем в виду (оба – ученики Ключевского), в своих диссертациях высказали собственные наблюдения не в результате знакомства с литературными произведениями русских и иностранных беллетристов и дипломатов, а в итоге изучения источников и исследования определенных и притом весьма важных отраслей управления и законодательства эпохи Петра Великого.
Первый автор, П. Н. Милюков, в своем труде «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформа Петра Великого» (СПб., 1892) [1622]высказался по поводу характера петровского законодательствования в результате изучения архивных источников о преобразовании Петром центральных, по преимуществу финансовых учреждений. Приведем наиболее значительные и категорические его выводы по занимающей нас теме, о плане петровских преобразований: «Вопросы ставила жизнь; формулировали более или менее способные и знающие люди, – утверждает он, – царь схватывал иногда главную мысль формулировки или – и, может быть, чаще – ухватывался за ее прикладной вывод; обсуждение необходимых при осуществлении подробностей поставленной, формулированной и одобренной идеи предоставлялось царем правительству вместе с подавшими мысль советчиками – и в результате получался указ. Но этот конец был только новым началом» [1623]. Следовательно, по взглядам П. Н. Милюкова, стихийные запросы жизни и случайные проекты способных, знающих советников царя – вот что вызывало к жизни тот или иной проект и сообщало ему порядок и направление.
Предыдущие главы нашего исследования отдельных моментов правотворческого процесса при Петре с достаточной, как нам думается, убедительностью вскрыли противоречивость подобных утверждений и документальных данных, оставшихся от законодательной лаборатории Петра.
В том же духе, но менее резко высказался другой ученик В. О. Ключевского, в конце своей жизни академик [1624], М. М. Богословский – в своей ранней работе «Областная реформа Петра Великого» (М., 1902) [1625], в результате изучения второй административной, областной реформы Петра. Он утверждает:
Административная реформа проходила так же бессистемно, как и все вообще петровские реформы, и жестоко ошибся бы тот, кто представлял бы себе в ней какую-либо планомерность, кто ждал бы видеть в ее основе какой-либо предварительный план, хотя бы отдаленно похожий на известный план преобразования, составленный столетием позже Сперанским ‹…› Благодаря такому отсутствию заранее достаточно разработанного и согласованного с другими реформами общего плана, неизбежны были недосмотры, пробелы, противоречия и ошибки, которые отклоняли реформу от первоначальных намерений реформатора, которые потом приходилось исправлять с откровенными признаниями, что «не рассмотря тогда учинено было» [1626].
Итак, при отсутствии какого-либо предварительно составленного плана неизбежные недостатки, пробелы, противоречия и ошибки – вот основные черты великого дела преобразования России Петром I в первой четверти XVIII века, по наблюдениям М. М. Богословского.
Не входя в подробную критику основных положений названных исследователей и не указывая специально на противоречия их отдельных утверждений документальным архивным данным, что станет ясным само собой из дальнейшего изложения наших наблюдений и выводов по этому вопросу, тем не менее считаем уместным остановиться на двух отдельных положениях последнего автора и сделать ему два возражения.
Первое – по поводу жестокой ошибки всякого, кто вздумал бы утверждать наличие в реформах Петра какой-либо планомерности и ждал бы видеть в основе его преобразовательной деятельности «какой-либо предварительный план, хотя бы отдаленно похожий на известный план» Сперанского. Действительно, «жестоко» погрешил бы всякий, кто, пренебрегая законом и требованиями исторической перспективы, предъявил бы к Петру, деятелю первой четверти XVIII века, те же запросы и ожидания, которые естественны и уместны в отношении к ученому, государственному деятелю даже не следующей после Петра Великого эпохи, а начала XIX века, времени М. М. Сперанского. Между названными периодами успели сойти со сцены почти четыре поколения. За это время на Западе были написаны политические трактаты Монтескье и Руссо, произошли события Великой французской революции, провозгласившей «Декларацию прав человека и гражданина», был издан кодекс Наполеона [1627]. Все эти события и трактаты были освещены той или иной идеей, а декларации и кодексы – проникнуты строгой системой. В России за это же время был составлен на основании указанных трактатов и других сочинений «Наказ» Екатерины II, созвана была для обсуждения современных проблем специальная комиссия, успевшая высказать свои пожелания о правах и нуждах отдельных сословий, учреждений и т. п. [1628], работали около столетия Академия наук и Петербургская духовная академия [1629], вырастившая Сперанского [1630], и около полустолетия – Московский университет с его исследованиями вопросов права [1631]. Поэтому вряд ли справедливо от мысли самоучки, только что пробудившегося к творчеству, требовать стройности и систематичности, свойственной уму ученого, прошедшего долгую тренировку под руководством профессоров, получивших в свою очередь закалку в полуиезуитских школах-коллегиях. А Сперанский вышел именно из такой школы, основанной почти за сто лет до него в Петербурге, в Невском монастыре, Петром [1632].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу