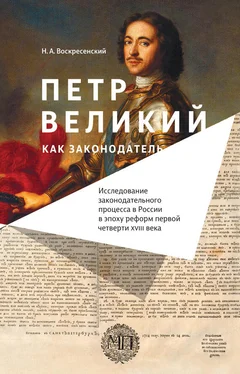Небезынтересно отметить, что воспроизведенное нами понимание Петром I сущности права владения землей, как оно сложилось в результате его законодательной деятельности и нашло свое выражение в многочисленных законодательных актах и административных распоряжениях, глубоко вошло в народноправное сознание, укрепилось нем и точно отразилось в правовых терминах, в юридической литературе и в народном языке. Отношение землевладельца к земле обозначалось не как право собственности, а как право владения, землевладения, а субъект этого права – не как собственник земли, вотчинник, а как землевладелец, помещик; термин же «вотчинник» как [означающий] «полный, неограниченный собственник земли» выходит из употребления со времени Петра I и в официальных текстах, и в народной речи.
Если признать правильным наше понимание и изложение взглядов Петра I на право дворян владеть землей, то окажутся вполне объяснимыми и необходимыми меры, которыми его законодательство стремилось сохранить и обеспечить устойчивость благ, связанных с правом владения землей. Земли были валютой, которой располагало правительство и которой оно расплачивалось с военными людьми за их службу. Но земли представляли собою ценность только при условии достаточного обеспечения их рабочей силой, какой являлись земледельцы – крестьяне.
Поэтому вполне понятны те меры, которыми государство Петра I стремилось поддержать установленный им порядок и обеспечить полноценность той валюты, которой оно расплачивалось со служилыми людьми за их воинскую службу. Самым решительным средством являлось воспрещение крестьянского перехода, беспорядочной текучести, бродяжничества крестьян. При этом необходимо твердо отметить, что по законодательству Петра I санкции за прием и незаконное держание беглых крестьян были более разорительными и суровыми для дворян-землевладельцев и их старост, чем в отношении беглецов – крестьян. При взыскании штрафов с первых, с владельцев, Петр был особенно тверд и непреклонен. Из приводимых ниже резолюций царя на два челобитья, поданных ему представителями знатного дворянства в связи с обнаруженными приемом и держанием в их владениях беглых крестьян, видно, что царь не склонен был оказать послабление и поблажку даже близким к власти лицам.
Первое челобитье было подано Петру I вдовой генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева, графиней А. П. Шереметевой, 23 декабря 1722 года [1188]. В нем челобитчица, мать малолетних детей покойного фельдмаршала, указывала, что муж ее всю жизнь был «при армии безотлучно и никогда себе домашнего обывательства не имел»; в его отсутствие вотчинами и пожалованными за службы имениями «ведали и управляли люди наши»; из имения по закону «О беглых» отвозят беглых крестьян «с женами и с детми и со всеми пожитки». Но помещики ищут «всяких исков», «пожилых» денег [1189]; челобитчица до сих пор платила им, и скоро платить будет нечем. Поэтому она просит царя предоставить ей «сроку лет на 5 или на 6» и в то время указать государственным чиновникам, «разыскать, кто их (крестьян. – Н. В. ) в те наши вотчины принимал и было ли на оное веление мужа моего, фелдмаршала, чтоб оставшимся таким малолетным сиротам, детям нашим, от таких великих исков от помещиков в[о] всеконечное разорение не притти и дворов и вотчин не лишиться». Резолюция Петра I на приведенную просьбу графини характерна для его политики: «Дать сроку на пять лет в пожилых деньгах, а о беглых разыскивать и чинить по государственным уставам».
В апреле 1723 года, 17-го числа, было подано Петру аналогичное челобитье [1190]его племянников, братьев Александра и Ивана Нарышкиных [1191], мотивировавших свою просьбу тем, «что прием чужих крестьян был в деревнях наших от людей наших небрежением нашего воспрещения»; к этому присоединилось также отсутствие их [братьев] в России, «отлучением нашим за морем» [1192]. Казалось бы, царь мог по-родственному избавить малолетних племянников от обязательной для всех ответственности по закону. Но Петр этого не сделал. Войдя, однако, объективно, как правитель, в положение молодых землевладельцев, посланных для науки за границу, он положил резолюцию: «Дать сроку на 10 лет для того, что они были малы и в чужие государства посланы». Мало того, он распорядился оба челобитья со своими резолюциями поместить в число именных указов – как примерное для Сената решение подобного рода дел.
Если по законам и административным распоряжениям Петра I [даже] знатные и привилегированные землевладельцы не могли уклониться от ответственности за прием и держание беглых, то, вполне понятно, не избежать было суровых кар рядовым приемщикам и укрывателям беглых крестьян. Поэтому больше смелости и неподчинения закону проявляли сами беглые, а не владельцы земель и крестьян. Для примера приведем весьма любопытное дело, показательное для понимания отношения [со стороны] владельцев земли и [со стороны] беглых к правительственным мероприятиям в связи с воспрещением самовольных переходов крестьян и незаконного приема и держания их помещиками. Оно [это дело] рассматривалось в Сенате в 1713–1715 годах – следовательно, еще до издания общего положения «О беглых» от 1 февраля 1721 года [1193].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу