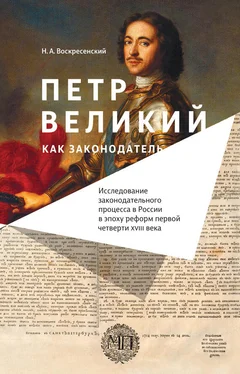Никто не может отрицать факта тяжелого положения крестьян при Петре I. Самая продолжительная и разорительная в истории России война при необходимости перестройки на ходу войска и самой техники ведения войны – все это самым тяжелым бременем ложилось на преимущественного плательщика всяких налогов и повинностей и в то, и в последующее время – на крестьянина. Указанные же «народные» движения не были крестьянскими. Если бы в учебнике по истории СССР для вузов были подробно указаны причины отдельных восстаний, а также более обстоятельно обрисовывались социальный состав и программа общественных групп, принимавших участие в восстаниях, тогда были бы ясны их цели и характер. Между тем в том и другом руководствах этот – наиболее важный – момент затушеван общей характеристикой условий, далеко не предшествовавших [данным] движениям, и, что особенно любопытно, при характеристике их не подчеркнута роль реакционных элементов: раскольников, стрельцов, купцов, иногда первой гильдии, одному из которых принадлежала руководящая роль в Астраханском военном бунте, что в свое время отметил еще С. М. Соловьев [1157].
Несомненно, социальная характеристика приобрела бы гораздо больше содержательности, если бы вместо ничего не значащей выдержки из челобитной, поданной Петру I от крестьян, написанной с церковно-риторским искусством подьячим с Ивановской площади или, может быть, церковным дьячком: «Твои бояре и князи… яко львы челюстями своими пожирают нас и яко змии ехидные рассвирепевши напрасно пожирают, яко же волци свирепии; бьют нас, яко немилостивыи Пилаты» [1158], была приведена выписка из «прелес[т]ного письма» – прокламации астраханских повстанцев, посланной ими через «воровских пересыльщиков» на Дон, в казацкий круг. «Послали де их из Астрахани астраханские жители и всяких чинов люди, – говорили посланцы, –
о том, что в Астрахани учинилось за веру христианскую, и за бороды, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам их и жен их и детей в русском платье не пущали, и от церквей отлучали, и всякое ругателство чинили, и брали с них банных по рублю, с погребов с сажени по гривне, да хлебное жалованье отняли. И они де, терпев долгое время и посоветовав меж собою, чтоб им веры христианской не отбыть и что стала тягость великая и не мога терпеть и веры христианской отбыть, противились и убили до смерти ‹…› Им же де, астраханцам, учинилось ведомо всяких чинов от людей, что в Казани и в иных городех поставлены немцы и тамошним жителем и женам их и детям чинят ругательство ж, как и им в Астрахани, тягость и убивство служилым людем до смерти. ‹…› Да к тому дополнено, велели де им поклоняться болваном кумирским [1159]и у начальных де людей кумирских богов выняли» [1160].
Полагаем, что историк должен проявить подлинное чутье – чтобы по-настоящему осветить роль всех элементов, принимавших участие в движении и дававших направление в восстании, чтобы «воровского атамана», купчину первой гильдии, к тому же явившегося «расколом в церковной противности» [1161], а также весьма неопределенно охарактеризованного в той же «Истории СССР» [1162]«некоего Жигалу» [1163]не признать ратоборцами и страдальцами за обираемый первым, а возможно, и вторым оборванный голодный люд, который они двинули против государственного порядка Петра I.
В частности, в данных движениях исследователь должен указать место и роль купцов-бородачей, с их верой в исключительность и богоизбранность старомосковских порядков, воззрений, веры, обычаев; мироедов всякого рода, привыкших на далекой окраине безраздельно и жестоко эксплуатировать беглую голытьбу. Он должен оценить по заслугам участие, намерения и стремления не разоружившегося до конца стрельца – «пакостника», по выражению Петра, – больше обывателя и торгаша, чем военного человека, а также бая и батыря полукочевых народов, державших в своих руках все нити народного труда и принимавших под свою высокую руку и беглого русского крестьянина, и местного татарина, и других с их устремлениями к мусульманской Турции и такому же Крыму, только недавно переставшему получать дань, [или] «поминки», с русского народа. Было что терять и зажиточному казаку, привыкшему среди степных просторов, вдалеке от государственных властей, распоряжаться всевозможными угодьями и не давать государству ничего, кроме нерегулярной партизанской военной службы.
Избегает автор главы «О народных движениях начала XVIII века» в «Истории СССР» сообщить и конкретные данные о результатах расследования личностей инициаторов и виновников Астраханского военного бунта, во время которого, по его словам, только в самом начале восставшими «в городе были казнены 300 начальных людей», а после – «несколько сот астраханских повстанцев было взято и отправлено в Москву». Между тем в архивах сохранились точные сведения о наказанных различным образом виновниках вооруженного восстания: «Колесовано перед Преображенским приказом 6 человек, отсечены головы у Преображенского приказа 42[‐м], на Красной площади – 30 человекам, около Москвы по дорогам перевешаны 242 человека, да во время розысков и после розысков померли 45 человек, всего колесовано, казнено и повешено 365 человек». Следовательно, правительством по окончании следствия было казнено мятежников лишь немногим, а именно 65 человеками, больше, чем умертвили служилых людей сами восставшие в начале своего мятежа. «Самый же вышеписанный их воровской атаман [1164]Носов после розыска держан был за караулом в Ново-Спасском монастыре и в болезни, – как значится в правительственном сообщении по поводу ликвидации мятежа, – явился расколом в церковной противности и, отца духовного не приняв, умре, и тело зарыто в землю в поле» [1165].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу