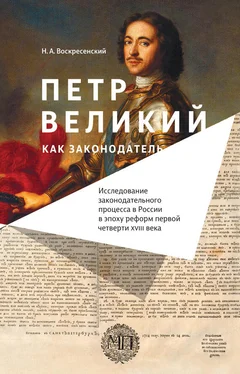В 1710 году, выдавая одну из своих племянниц замуж за границу, он напутствовал ее особым наставлением, в котором сказались с необычайной яркостью внутренние моральные воззрения самого Петра как человека, гражданина и правителя великого народа [1065]. Это наставление состоит из трех лаконических пунктов, которые мы приводим в нашем сборнике фотокопий. Пункт второй из них посвящен напоминанию о родном русском народе, которого невесте-царевне нельзя забывать никогда, ни при каких обстоятельствах. «Народ свой не забуди, – писал ей Петр, – но в любви и почтении имей паче протчих». При Петре в понятие народа входило как неотъемлемая часть национального самосознания исповедование православной веры. Поэтому в пункте первом Петр дал племяннице завет: «Веру и закон, в ней же родилася, сохрани до конца неотменно». Верность этим двум национальным особенностям русского народа своего времени Петр считал настолько обязательной, что позволял своей племяннице как будущей супруге иноземца не повиноваться своему мужу при столкновении долга верности своей национальности, своему народу с обязанностями жены: «Мужа люби и почитай яко главу и слушай во всем, кроме вышеписанного» [1066].
Как же понимал Петр свой, русский народ? Какими чертами в его сознании обрисовывался характер этого народа и каких мер воздействия, с его [Петра] точки зрения, он заслуживал, [а] именно какое отношение он [русский народ] должен был вызывать к себе со стороны власти при управлении им, при стремлении правителя поднять его, сделать вовне сильным, а у себя, внутри государства, благополучным, культурным и материально обеспеченным? Задумывался ли Петр над этими вопросами? Или больше был занят сосновым и дубовым лесом для постройки кораблей и крепостей, созданием морского и речного флота, снабжением армии вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, сбором денег для удовлетворения этих и других государственных нужд, организацией фабрик и заводов, проведением каналов и т. д., а общие вопросы о призвании правителя, об обществе, о человеке с его внутренней жизнью, об организации этой внутренней его природы считал лишней, ненужной роскошью?
В русской историографии твердо держится до настоящего времени еще никем не поколебленный взгляд, что Петру некогда было думать об этих вопросах – ему, занятому с юных лет борьбой то с сестрой, то с разнообразными внутренними и внешними врагами и постоянно отвлекаемому мобилизацией сил и интендантской подготовкой к этой борьбе. «Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра», – пишет В. О. Ключевский о первом периоде жизни Петра и далее утверждает: «Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него» [1067]. Но и потом, в последующие периоды своей жизни, Петр остался, по мнению Ключевского, таким же – «отлился односторонне» [1068], «из Петра вышел подвижной хозяин – чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой» [1069]. «До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни ‹…› он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега» [1070]. Много и других мыслей, подобных только что приведенным, поспешных и, как нам кажется, далеко не соответствующих истине, рассеяно в томе IV в общем замечательного «Курса русской истории» В. О. Ключевского.
Не ставя своей задачей дать полный критический разбор суждений покойного историка, мы тем не менее не можем не указать на наблюдения, сделанные нами при изучении правотворчества Петра, и не сообщить те выводы, которые следуют со всей бесспорностью из обозрения и анализа архивных законодательных материалов, извлеченных нами из древлехранилищ и представленных в Академию наук СССР в виде пятитомного собрания источников под именем «Законодательные акты Петра I» [1071]. Они [эти наблюдения и выводы] противоречат приведенным суждениям знаменитого ученого.
В предшествовавшей главе мы привели как одну из характерных черт законодательных приемов Петра I обоснование издаваемого им закона. Такое обоснование содержалось одинаково как почти в каждом публикуемом им указе, так и в отдельных, специально написанных им или по его указанию другими лицами трактатах для пропаганды предпринимаемой им реформы. Последние писались особенно часто в тех случаях, когда отменялось какое-либо установление или устранялось явление давнее, глубоко укоренившееся в народной жизни, ставшее как бы национальным, исконно русским. В таких случаях Петр считал себя как законодателя особенно обязанным показать необходимость отмены старого порядка и, напротив, разумность и полезность вводимого им нового. Достаточно указать на три важнейшие реформы Петра I в следующих вопросах: в наследственном преемстве царского престола в Московском государстве, в высшем управлении Русской православной церковью во главе с патриархом, равным по достоинству и власти с царем Русским, и, наконец, в широком распространении и росте в России монастырей с крупным их землевладением и монашеством, свободным от обязательного служения народу. Изучая архивные материалы, нельзя не видеть, как заботливо Петр обставлял проведение этих реформ подготовкой общественного мнения и как был чуток к успокоению встревоженной совести своих подданных. Он писал разъяснения и обоснования по различным вопросам сам, привлекал к этому делу лучшие литературные силы своего времени, часто из круга людей, наиболее близко стоявших к народу, – из представителей духовенства. В числе последних наиболее искренним, деятельным и талантливым сотрудником Петра, как мы видели, был Феофан Прокопович.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу