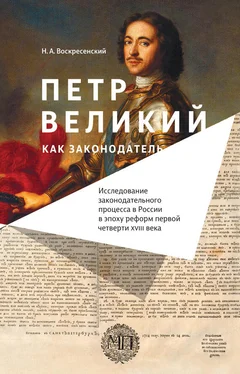Вторая часть трактата посвящена разбору синодального управления церковью[, как оно описано] в Новом Завете, сначала в период апостольский и далее в эпоху вселенских соборов. Автор так устанавливает круг дел первых четырех апостольских соборов: 1[‐й собор] – в 34[‐м] году по Р[ождеству] Х[ристову], в доме Марии, матери Иоанна, – об избрании вместо Иуды-предателя другого апостола; 2[‐й собор] – в Иерусалиме в том же году – «об избрании седьми благоговейных диаконов, которые бы служили трапезам, питающе и напоявающе мужей и жен, приявших веру Христову, которую службу прежде чинили апостолы» [990]; 3[‐й собор] – там же в 51[‐м] году – «о разрешении сомнителства сего: достоит ли христианом обрезыватися и хранити прочие церемонии и чины закона Моисеева», и 4[‐й собор] – в Иерусалиме же в 58[‐м] году – «дабы подтвердить, что евреи, обращающиеся в веру Христову, могут креститися и обрезыватися, сообщить тайну Нового Завета и употреблять церемонию Древнего Завета, доколе будет стоять храм Соломонов, не для того, аки бы закон евангельский не доволен был спасти их, но того ради, дабы сонмище, которое бяше матерь церквей, помалу, а не абие с честию скончалось» [991]. Далее Феофан перечисляет деяния семи вселенских соборов.
Из обзора вопросов апостольских и вселенских соборов автор трактата делает весьма важный вывод – что как апостолы, так впоследствии и «благочестивейшие императоры и императрицы» собирали соборы и «советовали» на них в делах веры, [говорили] о ее распространении, о догматах, о благочестии, о благосостоянии церкви, о добрых нравах христианских, «о спасении душ, за которые умре единородный сын божий». На соборах «богоносные отцы ‹…› оставляющие дела мирские мирским ‹…› не судили о моем и твоем, ни о окладных и неокладных сборах, о лазаретных и нелазаретных, о табельных и нетабельных, о оброчных и дымовых деньгах».
Каким же образом в таком случае содержались высшие представители церкви, имели ли они свою казну, специальных казначеев и «сбирали ли деньги от их епархий на свое пропитание»? – ставит вопрос Феофан и тут же отвечает на него: «Ответствую – ни». Всякое «доволство, даже до подвод», епископы и их служители получали от казны императорской. Сомневающихся автор призывает читать «Кодики» (Кодексы) Юстиниана, Феодосия и других императоров византийских. Были периоды, [описанные] и в Ветхом, и в Новом Завете, когда священники собирали казну, вследствие чего «епископы учинились стряпчими, домостроителми и корчемниками». Феофан приводит по этому поводу высказывание отцов церкви и примеры злоупотреблений, например при царе Иодае – с починкой «ведека» (крыши) храма Соломонова или в апостольский период с апостолом Иудой, которого «черт ‹…› взял телесно и духовно».
Общими выводами из обзора истории синодального управления[, отраженной] в Ветхом и Новом Завете, в отношении русской церкви у Феофана явились следующие положения:
1. «Заключаю я, – писал он, – что синодальным архиереом и священником подобает быть искусным Св. Писания, церковных историй, канонов апостольских, вселенских и поместных соборов и догматов богоносных отец. Обретаются в России таковые искусные, мудрые и благочестивые священники» [992].
2. Синодальные епископы и священники не должны судить «о десятинах, о сенокосах, о копнах, о пашенной земле, об оброках и сборах и тым подобным упражнятися, понеже не должность их судити о земных вещах, надлежащих до чрева, до одежды и до плоти, но о небесных вещех, надлежащих до души, до веры, до бога и милости божией» [993].
3. Для ведéния гражданских, и особенно имущественных, дел церкви надлежит «определить мирских судей с примеру Монастырского приказу, дабы судили в гражданских делах церковные особы, а Синоду судити токмо богословская дела, касающаяся до вышеупомянутых церковных особ» [994].
Так сотрудник Петра, высший представитель церкви, монах, высказываниями «богоносных отец» и «благочестивых византийских императоров», а также примерами из Ветхого и Нового Заветов успокаивал совесть Петра и каноническими правилами обосновывал действия царя, вытекавшие из общегосударственных его мероприятий. С другой стороны, автор трактата убеждал православное духовенство и русское общество в законности и целесообразности намерений и действий царя, направленных к устранению духовных властей от управления гражданскими и имущественными делами церкви, к отчуждению материальных ее богатств и к направлению их на служение государству и обществу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу