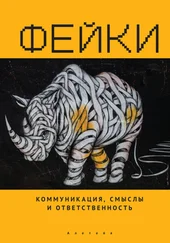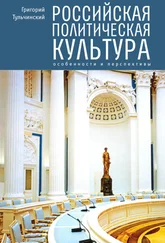«A clear case of an impact of metonymy on grammatical structure is provided by the use of names (paragons) as common nouns that denote a whole class of individuals… In A real Shakespeare would never use those trite images, the selection of the indefinite article in the subject noun phrase is clearly motivated by a metonymic shift from an individual (Shakespeare) to a whole class of individuals that have essentially the same relevant properties. The target concept determines the grammatical behavior; in this example, the target property of countability determines the possibility of using Shakespeare with an indefinite article or even pluralizingit (e.g., the Shakespeares of the twentieth century)» [Panthner, Thornburg 2007: 284].
«Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.
– Кто заплатит?
– Пушкин!
– Что я вам – Пушкин – за все отвечать?
– Пушкиншулер! Пушкинзон!
Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму…
– Ну что, брат Пушкин?..
Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком?» [Терц 2006: 3–4].
В национальном корпусе русского языка как первое подобное словоупотребление (Пушкин как неопределенно – отрицательное местоимение) приведен диалог между Анютой и факельщиком в кинофильме «Веселые ребята» (1934): «[На катафалке] [все слезают] [Факельщик] Стоп. А платить кто буде / Пушкин?». Ср. также: «Её кто за нас вести будет – Пушкин?» [Ю.О. Домбровский. Хранитель древностей. 1964]. «Ты? Нет, Пушкин!.. Меня покоробило от собственной пошлости, но говорить иначе я не мог» [Евгений Прошкин. Механика вечности. 2001]. «Понятно. А Пушкин на твоих деньгах был? – Естественно» [Евгений Прошкин. Механика вечности. 2001]. Можно увидеть и предпосылки трансформации имени Пушкин в обобщающее «все»: Опрос читателей «РР» в социальных сетях « Пушкин– наше все» [коллективный. Слова не выкинешь // «Русский репортер». 2015]. «" Пушкин– наше все" – этот «передоновский» слоган повторяем и мы, превратив его в пошлость, в лицемерие, в насмешку над великими, чтобы стать с ними вровень» [Передоновщина. 2003 // «Театральная жизнь», 2003.08.25].
Ср.: «Выразить самого себя – это значит сделать себя объектом для другого и для себя самого („действительность сознания“). Это первая ступень объективации. Но можно выразить и свое отношение к себе как объекту (вторая стадия объективации). При этом собственное слово становится объектным и получает второй – собственный же – голос. Но этот второй голос уже не бросает (от себя) тени, ибо он выражает чистое отношение, а вся объективирующая, материализующая плоть слова отдана первому голосу» [Бахтин 1979: 289].
К сожалению, материалы Совещания были опубликованы с большим запозданием, ротапринтным способом и небольшим тиражом; они незаслуженно оказались обойденными вниманием [Язык русской поэзии 1989].
Заметим, что подобное встречалось в истории советской стилистики, когда в рамках знаменитого в 60-х годов процесса А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля для вящей убедительности потребовалось провести лингво – стилистическую экспертизу установления авторства напечатанных под псевдонимом текстов. Ср.: «В процессе участвуют эксперты. В их задачу входило установить авторство подсудимых в тех писаниях, которые были густо напичканы антисоветскими измышлениями. Хотя свое авторство подсудимые не отрицают». Юрий Феофанов. Тут царит закон. Известия, 11 февр. 1966 г. Перепечатано в: [Цена метафоры 1989: 468].
Так, Сергей Гиндин делает исключение для русских поэтов: «Тождество субъекта подписанных одним именем произведений – поступков и естественная проекция этого субъекта на реального носителя этого имени суть факты коммуникативные. Но для русской поэзии всегда было характерно их этическое переосмысление. Более того, как раз в поэзии ХХ века, параллельно с тем, как в мировой поэзии все более осознавалась и эксплуатировалась возможность отчуждения произведения от автора…, русские поэты все более осознавали, что этот этический фактор играет цементирующую роль не только в биографии поэта, но и во внутренней организации всего его художественного творчества» [Гиндин 1989: 264]. Несомненно, здесь С. Гиндин опирается на ранее упомянутые идеи Г.О. Винокура и сближает поэтическую речь с парресией.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Григорий Тульчинский Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность [litres] обложка книги](/books/438711/grigorij-tulchinskij-fejki-kommunikaciya-smysly-cover.webp)



![Григорий Шаргородский - Долг платежом красен [litres]](/books/384796/grigorij-shargorodskij-dolg-platezhom-krasen-litres-thumb.webp)
![Григорий Кузнецов - Руны. Ключи к энергии мироздания [litres]](/books/385550/grigorij-kuznecov-runy-klyuchi-k-energii-mirozdaniya-thumb.webp)
![Фрэнк Мартела - Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres]](/books/390695/frenk-martela-wonderful-life-razmyshleniya-o-tom-k-thumb.webp)
![Мелина Кости - Вдохновляющий лидер [Команда. Смыслы. Энергия] [litres]](/books/409368/melina-kosti-vdohnovlyayuchij-lider-komanda-smysly-thumb.webp)