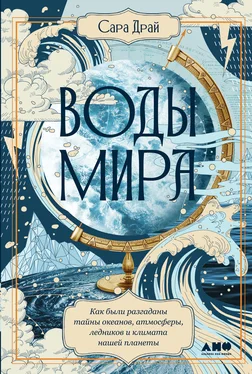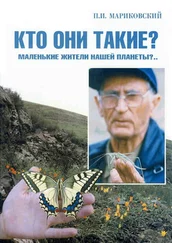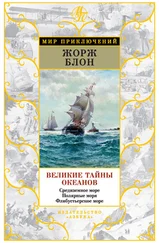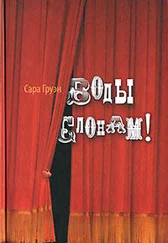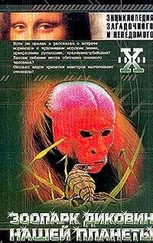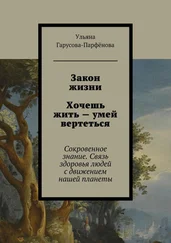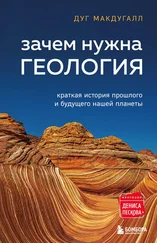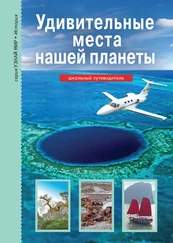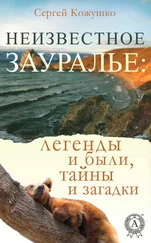Это метеорологическое разнообразие имело множество форм, но в целом преобладал муссонный характер климата – устойчивое чередование сухого и влажного сезонов, длившихся по полгода. С октября по апрель над Индией с северо-востока, со стороны материка, дули сухие холодные ветры. В мае они меняли направление и начинали дуть со стороны океана, принося с собой влажный воздух, облачность и обильные осадки, не прекращавшиеся с июня по сентябрь-октябрь.
Муссоны – яркий пример парадоксальности Индии. Источник стольких страданий – непредсказуемость муссонных дождей могла стать ключом к раскрытию важнейших тайн погоды. О более явном сигнале, зафиксированном в бесчисленных показаниях тысяч дождемеров, самопишущих барометров и термометров, метеорологи не могли и мечтать. А такие выраженные сигналы давали метеорологии шанс трансформироваться в более надежную прогностическую науку. Именно это Норман Локьер обозначил как очевидную цель, твердо заявив, что «в метеорологии, как и в астрономии… нам необходимо отслеживать цикличность». Благодаря огромной протяженности Британской империи, география не могла и не должна была стать препятствием к этому. Если цикличность «не отслеживается в зоне умеренного климата, отправляйтесь в холодные или жаркие климатические пояса и ищите там», призывал Локьер своих коллег. «И если обнаружите, хватайтесь за нее, измеряйте и изучайте, чтобы понять, что она означает» [137] Norman Lockyer, «The Meteorology of the Future,» Nature 8 (12 December 1872): 99.
.
Не увидеть цикличность муссонов было так же трудно, как не заметить идущего на вас слона. Гораздо сложнее оказалось определить, от чего зависели приносимые ими осадки. Отправной точкой поисков стало Солнце – единственное природное явление, еще более заметное, чем муссоны. Ученым уже был известен один солнечный цикл, связанный с появлением и исчезновением пятен на его поверхности. Эти темные пятна, впервые замеченные Галилеем, впоследствии внимательно изучались в попытке понять, какое влияние они могут оказывать на Землю. В XVIII в. астроном Уильям Гершель в поисках корреляции сравнил данные о солнечных пятнах с историческими данными о ценах на зерно, приведенными в знаменитом труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». В 1830-х гг. в рамках «магнитного крестового похода» в разные точки земного шара были отправлены наблюдатели с магнетометрами, чтобы картировать магнитные токи Земли. В результате было сделано поразительное открытие: флуктуации земного магнитного поля совпадали по ритму с пятнообразовательной активностью Солнца. Интерес к солнечным пятнам возрос еще больше в 1850 г., когда Генрих Швабе опубликовал данные ежедневных наблюдений за солнечными пятнами, которые он вел почти четверть века. Это был самый полный на тот момент набор данных, на основе которых Швабе вывел 10-летний цикл нарастания и убывания пятен. Вскоре эта цифра была пересмотрена до 11 лет, а влияние солнечного цикла пятнообразования на Землю стало еще более очевидным после того, как в 1859 г. мощнейшая вспышка на Солнце привела к отказу телеграфа по всему миру (причем на некоторых телеграфных станциях вспыхнули пожары), «свела с ума» магнитные приборы и вызвала ярчайшие северные сияния даже на экваторе. После этих событий были выделены средства на строительство сети обсерваторий для наблюдения за Солнцем, а также для сбора и анализа данных о возможной связи между земными и солнечными явлениями (отправляясь в экспедицию на Тенерифе, Пьяцци Смит получил от ведущих ученых множество соответствующих запросов). Охваченные предчувствием, что они стоят на пороге раскрытия природных тайн, физики активно искали – и находили – связи между солнечными пятнами и магнетизмом, солнечными пятнами и температурой, солнечными пятнами и ветрами, солнечными пятнами и осадками. Эти связи зачастую можно было описать обезоруживающе простым языком, так что они казались очевидными. Чарльз Мелдрам, астроном Британской государственной обсерватории на Маврикии, так резюмировал свое открытие: «Много пятен – много ураганов; мало пятен – мало ураганов» [138] Цит. в: J. Norman Lockyer and W. W. Hunter, «Sunspots and Famine,» Nineteenth Century (1877): 591.
.
Но несмотря на столь активные исследования, к началу XX в. никаких прямых физических связей между Землей и Солнцем, которые могли бы сравниться с открытием «магнитного крестового похода», обнаружено не было. Интерес к этой области постепенно угасал. «Солнцепятнопоклонничество», как уничижительно окрестили его критики, стало напоминать лженауку, последователи которой пытались в пучине данных отыскать несуществующие закономерности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу