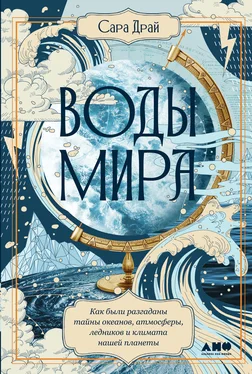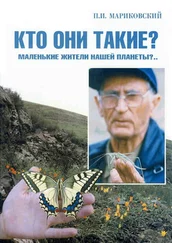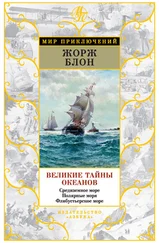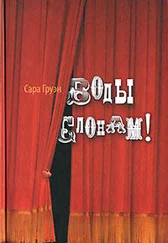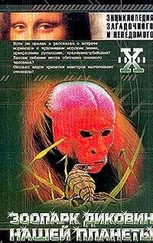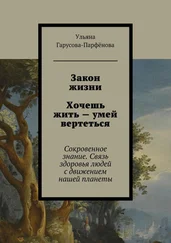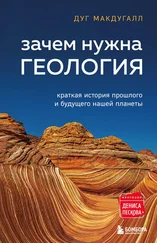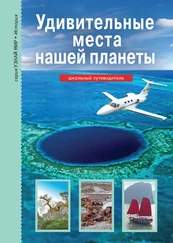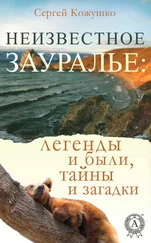Сегодня наука о климате, будучи отчасти основанной на фундаменте геологии, содержит в себе определенную долю присущей ей историчности. Но одновременно она исповедует и другой подход к истории, более близкий по духу к Ньютону, чем к Хаттону. Ньютоновская вселенная небесных тел – история, которая разворачивалась в форме определенных циклов, а не череды непредвиденных событий, – всегда была частью того, что сегодня, в ретроспективе, мы можем назвать классической климатологией. Ньютоновский физический подход лежал в основе расчетов, посредством которых такие ученые, как Джеймс Томсон, описывали таяние льда под давлением. В совокупности эти физические методы привели к становлению того типа мышления, который позволил Брокеру и другим начать изучение глобальных механизмов, ответственных за зафиксированные в ледяных «архивах» изменения земного климата. Это был совершенно другой, отличный от библейского подход к пониманию внутренней истории климата, который получил название «динамика климата» [375] Появление этого термина и соответствующей группы специалистов можно датировать по выходу первого номера журнала «Динамика климата» в 1986 г.
. Он не опирался на традиционные исторические методы и на междисциплинарное сотрудничество, к которому стремились участники конференции 1979 г., где традиционные историки участвовали в построении климатических временны́х линий. Это было новое восприятие климата. В отличие от представителей дисциплин, ведущих свое происхождение от геологии, таких как классическая климатология, метеорология и океанография довоенного периода, в разной мере довольствовавшихся простым описанием того, как разворачивалась история климата, специалисты в этой новой области, динамике климата, хотели понять, какие причинно-следственные отношения связывают между собой все части климатической системы и как эти связи порождают явления, которые можно измерить и объяснить. В этом контексте изучение истории климата подразумевало понимание причинно-следственных связей между физическими явлениями, а не просто описание этих явлений. Другими словами, у движения воды, воздуха или льда имелась своя история, которая могла быть изучена не только посредством наблюдения и описания, но и с помощью применения соответствующих физических принципов. Статья Генри Стоммела об интенсификации пограничных течений в западном направлении была классическим образцом такого типа мышления в океанографии. Она не только представляла собой попытку понять природные явления при помощи физических принципов, что лежало в основе новой климатической истории, но и продемонстрировала всю ценность простоты на этой новой арене.
В этом смысле подход ученых, изучавших динамику климата, отличался осознанной историчностью. Некоторая неопределенность относительно того, почему климатическая система пошла именно по тому или иному пути, – то есть вероятность того, что ситуация могла бы повернуться совершенно иначе, – существовала всегда, но наука о динамике климата акцентировалась не на этой неопределенности, а на связях между элементами системы. Другими словами, представителей этой научной дисциплины больше интересовало то, что можно было объяснить посредством причинно-следственных связей с точки зрения физической динамики, и гораздо меньше – по крайней мере теоретически – то, что было принципиально непредсказуемо. Вот почему их подход можно считать гораздо более историческим по своей сути, чем хронологическую описательную парадигму классических климатологов. Когда неопределенность стала слишком значительной, чтобы игнорировать ее, для ее объяснения были разработаны новые теории. Главной среди них стала теория хаоса, предложенная математиком и метеорологом Эдвардом Лоренцем, описывающая хаотические свойства некоторых динамических систем, в том числе атмосферных. Хаос, как его понимал Лоренц, позволял ввести в систему непредсказуемость, не снисходя до «простой» случайности. Хаотические системы далеко не случайны, но вращаются вокруг определенных стабильных состояний, никогда в них не фиксируясь. Это делает их поведение непредсказуемым, мешая физикам вывести обещанное Ньютоном совершенное знание на основе первоначальных условий. Лоренц показал, что хаотические системы сверхчувствительны к первоначальным условиям, а поскольку последние никогда не бывают одинаковы, даже малейшее различие в них выливается в непредсказуемые результаты. От совершенного знания пришлось отказаться в обмен на понимание хаоса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу