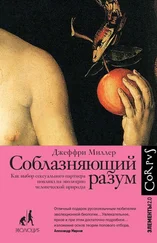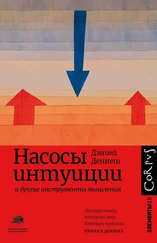Каким образом слова сами закрепляются в детском мозгу? Дети выучивают около семи слов в день в среднем с момента рождения до возраста шести лет. (Откуда это известно? Все просто: достаточно сосчитать словарный запас шестилетки, он равен примерно 15 тысячам слов, и разделить на количество дней его жизни, то есть 2190 с момента рождения. Малыш выучивает примерно 200 слов за первые два года своей жизни, затем процесс набирает скорость на несколько лет, прежде чем резко затормозится. Сколько слов вы выучили за эту неделю?) Если мы посмотрим на самые первые дни обучения языку, мы увидим, что в среднем надо произнести слово шесть раз в присутствии ребенка, чтобы он начал пытаться произнести его, повторить слово сам (Roy, 2013; см. также блестящую лекцию на портале TED http://www.ted.com/talks/deb_ roy_the_birth_of_a_word). Таким образом можно сказать, что, в отличие от вируса, слову, чтобы родиться, требуется множество родителей, но им для этого не надо собираться вместе одновременно. Многие слова, которые слышат дети, не обращены к ним напрямую; дети слышат разговоры родителей и заботящихся о них людей. Первое появление слова – всего лишь новое звуковое событие в некоем сложном, во многом непостижимом процессе перцепции, однако оно производит на мозг впечатление. Второе произнесение усиливает впечатление (если бы ребенок мог говорить, он бы заявил: «О, снова этот звук »), и возникает в обстоятельствах, которые могут (или нет) напоминать те, в которых случился первый раз. Третье произнесение – уже что-то знакомое, и обстоятельства события могут стать еще более значимыми. Четвертый, пятый и шестой разы создают слуховую сигнатуру, фонологию , как говорят лингвисты, и формируют в мозгу якорь. К этому моменту у ребенка появляется цель: скажи это! Мы можем предположить, что склонность к формированию подобной цели к настоящему времени закреплена в нас генетически, однако на ранних стадиях развития речи/коммуникаций у гомининов 50это было скорее всего переменной идиосинкразией, развивающейся склонностью к подражанию родителям и взрослым и к общению с ними. (О происхождении речи подробно в главе 12.)
Когда ребенок начинает пытаться повторять слова, взрослые в присутствии ребенка стараются говорить помедленнее и упрощая вокализацию (Roy, 2015). Ребенок из пассивного слушателя превращается в кандидата на участие в беседе. Всего несколько поколений токенов, постоянно повторяемых ребенком, и произношение улучшается, появляются членораздельные копии: «первые слова малыша», хотя малышу вовсе не нужно их понимать, и даже понимать, что это слова. Ребенок просто усваивает привычку произносить структурированные звуки в особых обстоятельствах, и это порой немедленно вознаграждается, во многом точно так же, как его «инстинктивный» плач заканчивается едой, лаской или устранением дискомфорта. Звук слов становится все более знакомым, узнаваемым, идентифицируемым, повторения накапливаются и в речи, и на слух. Произносимое слово закрепляется в мозгу ребенка, и в этот момент оно подходит в основном для того… чтобы его произносить. Вскоре ребенок все лучше его различает (бессознательно), и постепенно оно начинает что-то значить. Это воспроизведение словесного потомства происходит, вероятно, бессознательно, поскольку ребенок не сразу развивает в себе осознанность, формирующуюся постепенно из потока стимуляций и реакций. К этом спорному вопросу следует подходить осторожно. Мы не сможем провести границу между сознательной и бессознательной деятельностью, даже если поставим себе четкую задачу. Точно так же, как пробуждение от глубокого сна происходит постепенно и нельзя определить, в какой момент сознание просыпается, процесс развития сознания ребенка до состояния, когда его на самом деле можно назвать сознанием (нечто большее, чем восприимчивость, чувствительность к раздражителям, присущая и растениям, и бактериям), идет постепенно, как и все великие превращения в жизни.
Некоторые люди склоняются к мнению, что сознание – великое исключение, некое все-или-ничего свойство, делящее мир на два абсолютно не пересекающихся класса: сущности, которым оно нужно, чтобы быть, и сущности, которым оно не нужно, чтобы быть (Nagel, 1974; Searle, 1992; Chalmers, 1996; McGinn, 1999). Я никогда не сталкивался с убедительной аргументацией в пользу того, что все должно быть именно так. Это напоминает мне витализм, почти забытое учение, в котором жизнь зарождается от чего-то типа волшебного эликсира или некоего духа . Поскольку этот метафизический, экстравагантный взгляд на сознание до сих пор распространен даже среди весьма образованных людей, ученых и философов, я готов признать, что маленькие дети, скорее всего, не сознают (на самом деле), как потомки слов начинают заполонять их мозг. Если эти умные люди когда-нибудь докажут, что они правы, – хотя между нами давно пропасть, – я пересмотрю свои убеждения. Если завтра будет-таки открыта божественная искра, я соглашусь, что сознание приходит к ребенку (или к зародышу) в Магическое Время Ч , однако я буду продолжать настаивать на том, что сознание не может развить наследственные таланты, способности делать разные вещи только потому, что оно сознательно , пока оно не будет постепенно заполнено тысячами мемов – даже не словами, – которые реорганизуют нейронные связи, от которых эти таланты и умения зависят.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
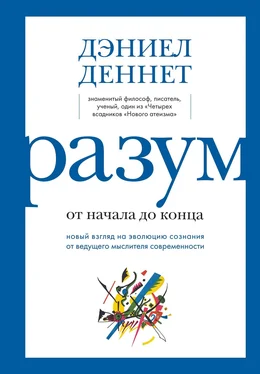





![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)
![Джеффри Миллер - Соблазняющий разум [Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы] [litres]](/books/401316/dzheffri-miller-soblaznyayuchij-razum-kak-vybor-seksu-thumb.webp)