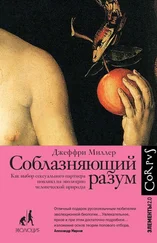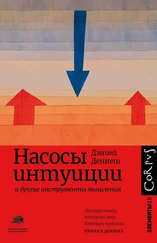Таким образом, мы имеем дело с кратким периодом в жизни ребенка, когда случайные вокализации (а может быть, и попытки подражать услышанным звукам) становятся бессознательным детским лепетом, который не продвигается дальше бессмысленного потока звуков. Эти вокальные микро-привычки продолжаются несколько месяцев, пока не вытесняются более эффективными вокализациями, или пока у них не появляется смысл, благодаря заинтересованным собеседникам. Для многих людей эти младенческие слова суть единственные слова, которые они будут успешно «монетизировать» всю свою жизнь. Когда любящие родители и братья-сестры отвечают на бессмысленное лепетание малыша, не привязывая его к каким-либо смыслам, они тем не менее участвуют в создании настоящего комменсального [128] Комменсализм – способ совместного существования (симбиоза) двух разных видов живых организмов, при котором один из партнеров этой системы (комменсал) взаимодействует с внешней средой не сам, а через хозяина, не вступая с ним в тесные взаимоотношения; например, так строятся взаимоотношения деревьев и лишайников, некоторых цветов и грибов. Популяция комменсалов извлекает пользу из взаимоотношений, а популяция хозяев не получает ни пользы, ни вреда.
звукового мема, у которого нет иных функций, кроме воспроизводства, комменсального умственного вируса, который не помогает, но и не мешает, но некоторое время процветает 51.
Самые важные слова, общественные мемы, становятся необходимым инструментарием, внедряются в словарь почти каждого человека, выстраивают под себя семантику и синтаксис, обретают дополнительные смыслы постепенно, почти Дарвиновским ко-эволюционным способом, посредством восходящего научения, используя способность мозга распознавать паттерны и эксплуатируя преимущества его инструментов прогнозирования будущего (Gorniak, 2005; Gorniak and Roy, 2006). Этот прямолинейный (по сравнению со всеми известными сложностями семантики и синтаксиса естественных языков) тезис, может быть воспринят лингвистами как безответственная спекуляция, однако на самом деле он очень бесхитростен. Первой в игру вступает фонология, создавая в мозгу узелок или фокус, привязанный к звуковой сигнатуре слова, и он постепенно становится основой, якорем, точкой сбора для семантики и синтаксиса, формирующихся вокруг звука, одновременно с его артикуляционным профилем, – или как еще это назвать. Я стараюсь не становиться на чью-либо сторону в споре, даже в тех случаях, когда у меня есть собственные убеждения; у меня больше чем достаточно аргументов, чтобы защитить, не вступая в споры, свое мнение о том, сколь много готовых форм, сколь много «Универсальной грамматики», как говорят последователи Хомского, может быть генетически установлено в «Устройстве усвоения языка», и я никоим образом не настаиваю на знании, какую форму эти врожденные установки носят. Младенческий мозг тем или иным способом, непреднамеренно (ну никак не сознательно), без какого-либо «теоретизирования» усваивает способы, с помощью которых он будет делиться с родителями семантической информацией, полученной через органы чувств 52.
Сегодня усвоение родного языка человеческим детенышем – отлично разработанный процесс, использующий преимущества, полученные, без всякого сомнения, в ходе естественного отбора среди тысяч поколений носителей человеческих языков. Эволюционный процесс создал массу усовершенствований по мере развития речи, сделав усвоение языка более простым, слова удобными для произношения и распознавания, утверждения, вопросы, ответы, приказы пригодными для быстрого формулирования и выражения. Этот эволюционный процесс не привел сразу к различным изменениям в генах, скорее он вызвал быстрое размножение мемов. Речь эволюционировала, чтобы соответствовать нашему мозгу до того, как мозг эволюционировал, чтобы лучше воспринимать речь 53.
Без сомнения, произносимые мемы в той или иной степени ограничены физикой и физиологией человеческого голоса и слуха. Тем не менее, как бы ни были разнообразны языки, дети обычно достигают способности понимать и распознавать звуки речи без каких-либо инструкций, с минимумом замечаний от родителей. И без всякого сомнения семантические свойства новых слов, которые усваивает их мозг, существенно зависят от устройства нелингвистической части человеческого умвельта, от образов возможностей и действий, которые в нем заключены. И в этой области ребенок усваивает семантическую информацию самостоятельно, без чьей-либо помощи. Любящие родители во всех культурах обожают учить детей названиям предметов, однако сколь бы они ни старались, дети постигают смысл слов постепенно, без специальных усилий и без какого-либо руководства. Повторяющееся воздействие тысяч слов в конкретных обстоятельствах позволяет усвоить всю необходимую для понимания смысла речи информацию, требуя лишь совсем небольших уточнений по ситуации. (Пони – это такая лошадь? Лиса – родственник собаки? Мне стыдно или мне неловко ?)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
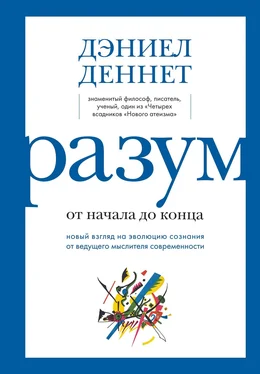





![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)
![Джеффри Миллер - Соблазняющий разум [Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы] [litres]](/books/401316/dzheffri-miller-soblaznyayuchij-razum-kak-vybor-seksu-thumb.webp)