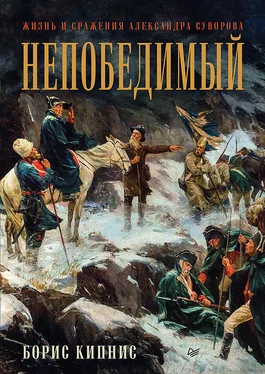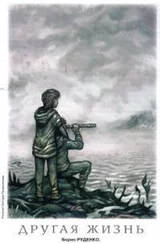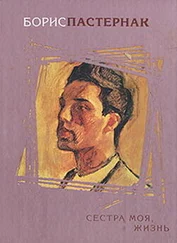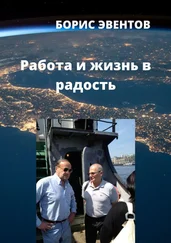Неясно четвертое темное обстоятельство: почему сразу же после отдачи приказа гренадерам Фишера не послал за артиллерией, которая была неподалеку, в резерве у генерал-поручика А. Н. Самойлова, племянника Потемкина. Очевидно, понадеялся, что тот проявит инициативу, а он оказался пассивен. Во всяком случае, князю о пассивности А. Н. Самойлова официально рапортовать не стал, возможно, не желая, чтобы говорили, что сваливает с больной головы на здоровую, а может быть, не рискуя хотя бы косвенно компрометировать близкого родственника своего патрона. Признался в «наличии» А. Н. Самойлова только в частном письме от 10–12 августа, и все тому же де Рибасу [716] Суворов А. В. Письма. – С. 169.
, которому по-прежнему писал все откровенно.
В поисках ответа на первые три вопроса можно только гадать, ибо документов, проливающих на них свет, у нас нет. Если же рассуждать логически, то небольшие потери бугских казаков можно объяснить только тем, что Суворов сразу же послал фанагорийских стрелков на выручку, а точнее, использовал стычку на аванпостах, чтобы преподать туркам кровавый урок. Он ведь сам по горячим следам в первом рапорте написал:
«Толь нужной (курсив мой. – Примеч. авт.) случай в наглом покушении неверных решил меня поспешить» [717] Суворов А. В. Документы. – Т. 2. – С. 434.
.
К чему «поспешить»? Если отогнать турок и вернуть казакам их «пункты», то фанагорийцы эту задачу выполнили: «немедленно атаковав их сильным огнем сбили» [718] Суворов А. В. Документы. – Т. 2. – С. 434–435.
. Но этого ему показалось мало, и он послал гренадерский батальон Фишера, послал генерал-майора И. А. Загряжского, чтобы тот, очевидно, принял общую команду над всеми: казаками, стрелками, гренадерами. Вот тут-то и турки стали наращивать силы, стычка на пикетах стремительно превратилась в разведку боем – шармицель, как пишет Потемкин. Суворов, очевидно, почувствовал опасность ее разрастания и трижды посылал приказ отвести войска, но, может быть, малые чины двух первых ординарцев и тот факт, что И. О. Курис хоть и был секунд-майором, но заведовал его канцелярией, то есть строевым офицером не был, не оказали нужного воздействия. Тогда четвертым был послан полковник Скоржинский. Последнее вообще странно, ибо если его казаки не выходили из боя, то и ему рядом с генерал-аншефом делать было нечего. В противном случае надо полагать, что казаки либо быстро потеряли аванпосты и оказались за боевой линией, либо полководец сам отвел их, прикрыв фанагорийскими стрелками. Предположить же, что Скоржинский оставил своих сражающихся людей, а сам находился при командующем левым флангом Суворове, просто немыслимо. Но зато, исходя из предположения, что стычка на аванпостах произошла быстро и не в три приема, как можно понять из рапорта полководца, а на трех пунктах одновременно, можно понять и почему у казаков убито всего 12 и ранено 4 человека. Из второго же предположения становится понятно, почему полковник Скоржинский теперь находился при Суворове. Второй вопрос (об артиллерии) объясняется просто: как видно из рапорта Потемкину от 20 июля, среди подчиненных нашему герою частей артиллерии просто нет [719] Там же. С. 433.
.
Ответ на третий вопрос кроется, как представляется нам, в том, что Суворов никак не объясняет, когда появился генерал-поручик Ю. Б. Бибиков. Во всяком случае, он упоминается в рапорте лишь после указания на ранение и появление гренадеров полковника П. П. Сытина. При этом полководец отмечает, что, отъезжая в лагерь, «оставил их [720] То есть фанагорийских стрелков и гренадеров Фишера.
в лутчем порядке» [721] Суворов А. В. Документы. – Т. 2. – С. 434–435.
. Значит, Ю. Б. Бибиков был прислан им, чтобы как старший в чине возглавить отступление назад в лагерь. При этом еще два батальона были выдвинуты на версту вперед от лагеря для поддержки выводимых из боя войск на случай, если турки «сядут им на плечи». Это сделано грамотно и обличает высокий профессионализм Суворова.
В чем же тогда его ошибка (а она имела место быть, раз войска понесли большие потери)? Думается, что он недооценил неприятеля, его мужественность и воинственность, способность к быстрому наращиванию удара и умению пользоваться складками местности, хотя последнее было ему хорошо известно по многолетнему предшествующему боевому опыту. Возможно, полководец посчитал, что гарнизон внутренне морально ослаб после поражения флота капудан-паши, произошедшего у него на глазах, после появления Екатеринославской армии перед Очаковым и из-за ощущения своей брошенности, раз флот ушел. Конечно, мы лишь рассуждаем логически, то есть предполагаем, не более. Очевидным является только одно – слабость Ю. Б. Бибикова как командира, заменившего Суворова на последнем этапе боя. Но тут часть вины лежит и на нашем герое: ведь сам собой генерал-поручик появиться среди сражающихся войск не мог. Прислать же его мог только сам генерал-аншеф. Почему? Это-то как раз понятно: другого старшего в чине под руками просто не было, а экзаменовать его на воинские способности было некогда. Однако же отдадим должное Суворову: он никоим образом не сваливает на Ю. Б. Бибикова вину, поэтому так «глухо» упоминает о его участии в бою, которым, судя по тексту, сам руководил с момента неудачной посылки полковника Скоржинского. Очевидно, видя, что его приказы не исполняются, а выводить войска надо, он сам отправился к ним, чтобы воздействовать своим авторитетом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу