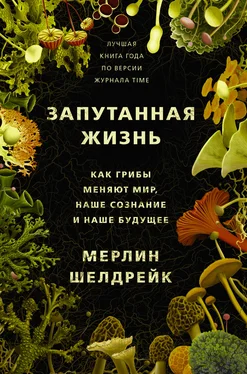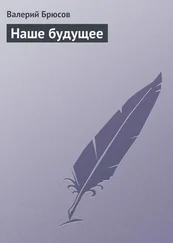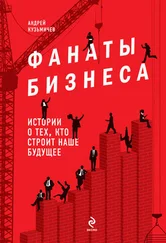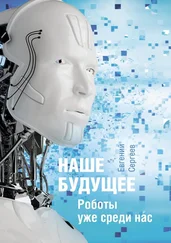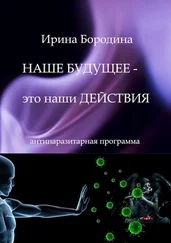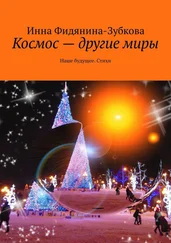Я спросил, чем, собственно, вновь обнаруженные грибные партнеры занимаются в лишайнике. «Мы точно не знаем, – ответил Сприбилл. – Каждый раз, как мы начинаем выяснять, кто что делает, мы совершенно запутываемся. Вместо того чтобы определить роли каждого симбионта, мы натыкаемся на все новых. Чем глубже мы проникаем, тем больше новых участников находим».
Выводы Сприбилла беспокоят некоторых ученых, потому что заставляют предположить, что лишайниковый симбиоз вовсе не такой замкнутый, каким его долгое время считали. «Некоторым симбиоз представляется этаким набором “сделай сам” из IKEA , – объясняет Сприбилл, – где у всякой детали своя функция и в котором есть инструкция по сборке». Вместо этого его находки предполагают, что образовать лишайник может широкий диапазон различных организмов. Главное, чтобы они «подходили друг другу, были совместимы». Речь идет не столько о «личностях», сколько о том, что они делают, о той метаболической «партии», которую каждый из них ведет. С этой точки зрения, лишайники – скорее динамические системы , нежели каталог взаимодействующих составляющих.
Получается картина, сильно отличающаяся от той, что рисовала гипотеза о двойственности лишайников. С тех пор как Швенденер изобразил гриб господином, а водоросль – рабыней, биологи спорят, какой из двух партнеров контролирует другого. Но теперь дуэт превратился в трио, трио – в квартет, да и тот уже больше походит на целый хор. Сприбилла не смущает то, что невозможно найти одно стабильное определение лишайника. Это обстоятельство, к которому, наслаждаясь его абсурдностью, часто возвращается Говард: «Как, существует целая дисциплина, которая не может определить, что конкретно в ее рамках изучают?» «Неважно, как вы их назовете, – пишет Хиллман о лишайниках. – Нечто столь радикальное и обыденное одновременно что-то да означает». Более 100 лет лишайники провоцировали нас и будут, вероятно, продолжать компрометировать наше понимание того, что представляют собой живые организмы.
Тем временем Сприбилл исследует новые многообещающие направления. «Лишайники до отказа набиты бактериями», – сказал он мне. В действительности лишайники содержат столько бактерий, что некоторые исследователи выдвигают теорию (и тут тема панспермии открывается нам с новой стороны) о том, что лишайникки – по сути резервуар для микроорганизмов и что они засевают пустующие площади необходимыми штаммами бактерий. Внутри лишайников некоторые бактерии обеспечивают защиту; другие вырабатывают витамины и гормоны. Сприбилл подозревает, что у них есть и другие функции. «Я думаю, некоторые из этих бактерий необходимы, чтобы связать лишайниковую систему воедино, чтобы они стали чем-то большим, чем сгусток в лабораторной чашке».
Сприбилл рассказал мне о работе под названием «Квир-теория лишайников» ( Queer theory for lichens ). (Это первое, что всплывает на мониторе, когда вы вводите в Google слова queer («cтранный, гомосексуальный») и lichen («лишайник»). Ее автор утверждает, что лишайники – необычные существа, которые подталкивают нас к образу мыслей, выходящему за жесткие рамки бинарной системы: «идентичность» лишайников – это вопрос, на который не может быть заранее заготовленного верного ответа. Сприбилл, в свою очередь, находит «квир-теорию» полезной схемой, приложимой к лишайникам. «Наше бинарное мышление мешает задавать вопросы, не укладывающиеся в бинарную систему, – объясняет он. – Табу из области половых отношений мешают нам задавать вопросы о половых отношениях. Мы исходим из нашего культурного контекста, поэтому нам чрезвычайно трудно осознать сложные симбиозы, подобные лишайникам: мы воспринимаем себя как автономных индивидов, и нам сложно соотнести себя с ними».
Сприбилл описывает лишайники как самый «открытый для общения» симбиоз. Невозможно воспринимать какой-либо организм, включая человеческий, в отдельности от сообществ микроорганизмов, которые обитают внутри его. Биологическая идентичность большинства организмов не может быть отделена от жизни симбионтов-микробов. Слово «экология» происходит из греческого языка – от οίκος («дом, семья»). Наши тела, как и тела других организмов, это места обитания. Жизнь – это вложенные друг в вдруга биомы, до самого низа.
Нас нельзя описать только анатомически, потому что мы делим наши тела с микробами: в нас больше микробных клеток, чем наших «собственных». Коровы, к примеру, траву есть не могут, а их микробное население может, и коровьи тела в процессе эволюции стали кровом для микроорганизмов, поддерживающих их существование. Нельзя нас также определить только с позиции развития, то есть как организм, начавший быть в момент оплодотворения яйцеклетки, потому что, как и все млекопитающие, мы зависим от наших симбионтов, управляющих отдельными циклами наших программ развития. И генетически нас тоже невозможно классифицировать как организмы, состоящие из клеток с идентичным геномом: многие из микробов-симбионтов унаследованы нами от матерей вместе с нашими «собственными» ДНК. В некоторый момент нашей эволюционной истории микробы пробрались в клетки своих хозяев и поселились там навсегда: наши митохондрии несут собственный геном, как и хлоропласты растений; по крайней мере 8 % человеческого генома унаследовано от вирусов (мы даже можем обмениваться клетками с другими людьми, превращаемся в «химер»: мать и плод обмениваются в утробе генетическим материалом). Наша иммунная система также не может быть использована для оценки нашей индивидуальности, хотя считается, что иммунные клетки отвечают за нас на этот вопрос, отличая своих от чужих. Иммунная система в равной степени озабочена регулированием наших взаимоотношений с проживающими в нас микробами и борьбой с внешними захватчиками и, кажется, настроена позволять микробам колонизировать наш организм, а не предотвращать такую колонизацию. И к чему это нас приводит? Или, вернее, всех вас?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу