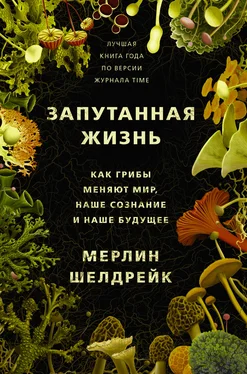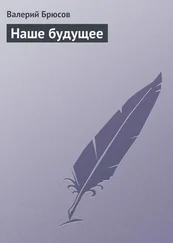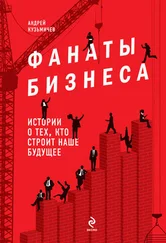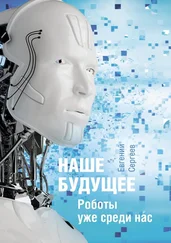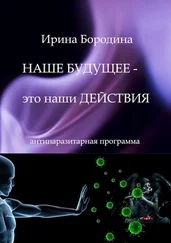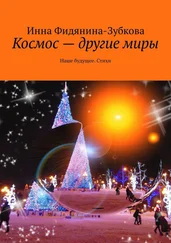Дрожжевые грибы – микроскопические, что весьма поспособствовало образованию многослойных исторических наносов вокруг их жизни. С грибами, дающими плодовые тела, нам всегда было немного проще. Уже давно известно, что грибы могу быть восхитительными на вкус, но могут и отравить, а могут и вылечить, утолить голод или вызвать галлюцинации. Сотни лет восточноазиатские поэты воспевали грибы и их вкусовые оттенки в рапсодических поэмах. «О мацутаке: / Радостное волнение, прежде чем найдешь их», – восхищался Ямагучи Содо, японский поэт XVII века. У европейских авторов грибы в целом вызывали больше сомнений и опасений. Альберт Великий в своем трактате XIII века «О растениях» ( De Vegetabilibus ) предупреждал, что грибы «влажного состояния» могут «остановить в головах существ [которые едят их] прохождение мыслей и вызвать безумие». Джон Джерард [27] Английский ботаник и врач. – Прим. изд.
в 1597 году предупреждал своих читателей, чтобы они вообще не притрагивались к грибам: «Лишь немногие грибы съедобны, многие из них вызывают удушье и смерть у того, кто их ест. Поэтому я даю совет тем, кто любит эту странную новомодную пищу, – поберечься, ибо, слизывая мед между шипами, можно за сладостью первого не заметить остроты и колючести последних». Но люди никогда не могли удержаться от грибного соблазна.
В 1957 году Гордон Уоссон [28] Этноботаник, этномиколог и писатель. – Прим. изд.
, популяризировавший волшебные грибы в статье, опубликованной в 1957 году в журнале Life , и его жена Валентина разработали бинарную систему, с помощью которой все национальные культуры можно было отнести к двум категориям: микофилов и микофобов. Уоссон предполагал, что современное отношение к грибам в различных культурах было «поздним эхом» древних культов психоделических грибов. Микофилические культуры были потомками тех, кто боготворил грибы. Микофобные культуры происходили от тех, кто считал власть грибов дьявольской. Микофилические настроения могли вдохновить Ямагучи Содо на сочинение поэм во славу мацутаке или заставить Терренса Маккенну разглагольствовать о достоинствах больших доз псилоцибиновых грибов, обращая слушателей в свою веру. Микофобное отношение может спровоцировать панику, которая приведет к запрету на грибы, или заставит Альберта Великого и Джона Джерарда мрачно предупреждать людей об опасности этой «новомодной пищи». Обе позиции признают власть грибов над человеческими жизнями. Обе воспринимают эту власть по-разному.
Мы постоянно пытаемся вместить организмы в рамки сомнительных категорий. Это один из способов разобраться в них. В XIX веке бактерии и грибы классифицировали как растения. Сегодня ученые признают, что и грибы, и бактерии относятся к собственным, отдельным доменам, однако завоевать независимость им удалось только в середине 1960-х годов. Большую часть задокументированной истории человечества продолжаются споры о том, что в действительности представляют собой грибы.
Теофраст, ученик Аристотеля, писал о трюфелях, но смог перечислить только то, чего у них нет. Из его описания следует, что у них нет корней, стебля, ветвей, почек, листьев, цветов и плодов; они не покрыты корой, у них нет смолы, волокон и прожилок. По мнению других классиков, грибы внезапно создавались ударами молний. Третьи считали их порождениями земли, «наростами» на ней. Карл Линней, шведский ботаник XVIII века, создатель современной таксономической системы, писал в 1751 году, что «система грибов – это все еще совершенный хаос, творческий беспорядок, и никто из ученых ботаников не знает, что есть вид, а что – разновидность».
И до настоящего времени грибы умудряются выскользнуть из всех классификаций, которые мы для них создаем. Таксономическая система Линнея была предназначена для животных и растений и не очень успешно справляется с грибами, лишайниками или бактериями. Один и тот же вид гриба может породить формы, не имеющие совершенно никакого сходства друг с другом. У многих грибных видов нет характерных особенностей, которые можно было бы использовать для их идентификации. Достижения в секвенировании генов скорее позволяют систематизировать грибы по группам с единой историей эволюционного развития, нежели сгруппировать их по физическим характеристикам. Однако определение того, где один вид заканчивается, а другой начинается, на основе генетических данных создает ровно столько же проблем, сколько разрешает. В мицелии одного и того же грибного «индивида» могут существовать многочисленные геномы. Внутри ДНК, выделенной из щепотки пыли, могут находиться десятки тысяч уникальных характерных генетических признаков, ни один из которых невозможно привязать ни к одной из известных групп грибов. В 2013 году в статье «Против именования грибов» ( Against the naming of fungi ) миколог Николас Мани зашел настолько далеко, что предложил полностью отказаться от концепции видов в классификации грибов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу