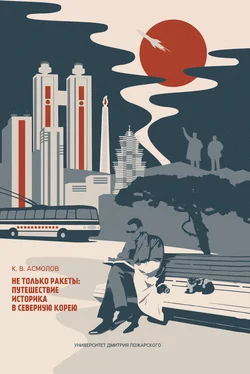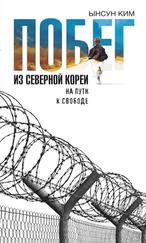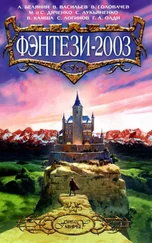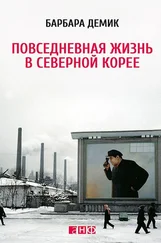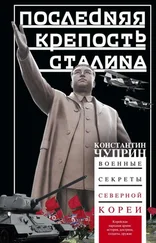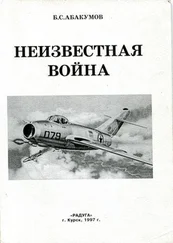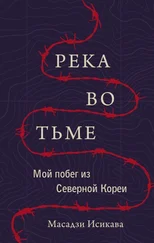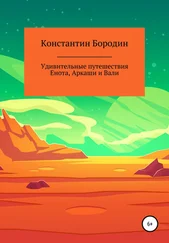Согласно официальной версии, уже в 1930-е гг. Ким Ир Сен начал ставить правильные задачи и заниматься прочей партийной работой. Опорные базы создавались на берегах Тумангана на территории Кандо, где корейцы составляли 80 % населения. Там же в освобожденных районах проводилась земельная реформа. В музее приводятся самопалы и прочее оружейное партизанское творчество, где есть не только капсюльные кармультуки, но и деревянные пушки, выстрелы из которых заставляли японцев думать, что на вооружении партизан есть самодельное оружие.
По японским данным, в 1933 г. корейские партизаны осуществили 4146 нападений в приграничных районах. Каратели тогда не создавали особенной проблемы, видимо, потому, что состояли из местных, и партизаны воспринимали их, скорее, как поставщиков оружия. При этом в качестве ссылки используется книга Аварина «Независимая Маньчжурия», которая была написана в 1934 г. Это рассказ о различных партизанских отрядах, причем через запятую упоминаются и китайские «красные пики» или «большие мечи», и корейские «отряды спасения Родины». Утверждается, что самый крупный отряд насчитывал 4–5 тысяч, отряды имели пулеметы и кавалерию.
Отдельно – рассказ о том, как партизаны захватили у карателей трофейный миномет. День, когда они произвели из него первый выстрел, теперь является Днем артиллерии.
Естественно, когда Маньчжурия стала восприниматься как прифронтовая база, и японцы взялись за антипартизанскую деятельность всерьез, ситуация изменилась.
Надо сказать, что японская стратегия борьбы с партизанами была разнообразной и включала не только жесточайшие репрессии против мирного населения как потенциальных пособников партизан, блокирование мест дислокации партизанских отрядов с целью уморить их голодом в труднодоступной местности и действия специально подготовленных команд, способных неделями гнаться за партизанами по тайге. К этому добавлялись провоцирование фракционной борьбы, в результате которой часть командиров выдали друг друга оккупантам; засылка провокаторов и шпионов, принудительное переселение населения из горных и лесных районов в так называемые «объединенные села», введение круговой поруки, паспортизацию населения и введение системы подорожных (при этом на паспортах вместо фотографии ставили отпечатки пальцев). Использовались «отряды самообороны» из числа прояпонски настроенных корейцев и японские переселенцы, поселения которых должны были давать отпор партизанам. Строились наблюдательные пункты, линии обороны и стратегические дороги, позволяющие быстро перебрасывать войска. Помимо экономической войны (японцы скупали все излишки продуктов с тем, чтобы местное население, отдавая продовольствие партизанам, этим обрекало себя на голод), велась идеологическая работа. Руководство партизан сманивали высокими постами в администрации, рядовых партизан – водкой и женщинами, используя для этого молодых проституток, а если их не было – порнографическими открытками, которые сбрасывали с самолетов в качестве листовок, с текстами «того, кто сдастся властям и принесет этот пропуск, наш бордель готов обслужить бесплатно».
Об успешности действий японских карателей говорит то, что во время Великой отечественной войны немцы пытались изучать японский опыт, применяя его против партизан Украины и Белоруссии. К 1940 г. японцы сумели либо уничтожить, либо заставить сдаться практически весь офицерский состав партизан.
В этом контексте хочется вернуться к истории героя Ма Дон Хи, который откусил себе язык, попав в плен к японцам. Когда эту историю повторили нам, Хрусталёв вспомнил, что ему попадались разговоры о том, что советские летчики во время Халхин-Гола имели четкую инструкцию: если тебя сбили и ты попал на вражескую территорию – проще сразу застрелиться. Японцы, дескать, умели купировать болевой шок при пытках и поэтому их «заплечных дел мастера» отличались очень высокой эффективностью. А пассаж «ежели пытаемый в беспамятство придет…» из «Трудно быть богом» – это будто бы перелицованный японистом Стругацким реальный кусок инструкции по технике ведения допроса для сотрудников военной полиции кэмпэйтай, отвечавшей в том числе и за борьбу с партизанами.
В музее есть яшмовый шарик, которым пользовался Ким Ир Сен, но, как выяснилось, это была гирька для удерживания карты на столе, а не классические шары для рук.
Присутствуют «деревья с лозунгами», написанными на коре, а также рассказ, что тайный лагерь был ну очень тайным, с очень строгим контролем. Поэтому не только японцы не могли его найти, но и после войны его было проблемно обнаружить. Несмотря на то, что значительная часть элиты страны в нём вроде как побывала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу