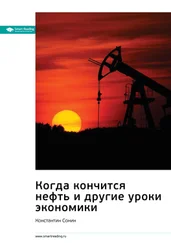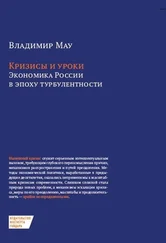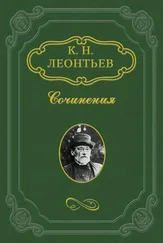В книге Arms and Influence 1966 года, которая развивала заложенные в The Strategy of Conflict идеи [23], Шеллинг приводит в пример ситуацию из переговоров российского лидера Никиты Хрущева с американским посланником Авереллом Гарриманом. Речь шла о возможном использовании американских танков в конфликте вокруг Западного Берлина. Хрущев сказал: “Если вы хотите войны, вы ее получите – но это будет ваша война. Наши ракеты полетят автоматически”. Казалось бы, советский лидер сузил собственный арсенал ответов на действия противника, но, в точном соответствии с теорией Шеллинга, он в результате этого сужения получил стратегическое преимущество. Раз ракеты полетят автоматически, у американских генералов не будет возможности строить свой расчет на том, что после их хода – в изменившейся ситуации – противнику может оказаться выгодно отступить. Без этого не получилось бы ядерного сдерживания: одна сторона могла бы нанести удар, рассчитывая на то, что второй стороне, после того как удар уже будет нанесен, отвечать окажется невыгодно. А сколько отдельных эпизодов шантажа и блефа произошло во время одного только Карибского кризиса – и не перечесть.
Примеры с генералом и мостами, с Хрущевым и ракетами позволили Шеллингу показать, что информированность сторон играет ключевую роль в стратегическом взаимодействии. Если противник не узнает, что генерал сжег мосты, то это действие резко потеряет в силе, потому что противник может начать наступление, думая, что мосты целы и войска генерала могут отступить. Можно и продолжить это рассуждение. Если враг узнает, что мосты сожжены, ему будет выгодно притвориться, что он об этом не знает. В свою очередь, генералу выгодно вести себя так, будто он уверен, что противник знает о его поступке и т. д.
Шеллинг – один из тех нобелевских лауреатов, чья сила была вовсе не в умении строить сложные формальные модели или проводить хитроумные статистические вычисления. После окончания Беркли и аспирантуры в Гарварде он работал в государственных учреждениях, консультировал бизнесменов и правительство. На такой работе требуются прежде всего ясность идей и прозрачность аргументации. Сама мысль о том, что правительства и корпорации вовлечены в стратегическое взаимодействие – “большую игру”, в которой результат зависит не только от сделанных ходов, но и от тех, которые только могли бы быть сделаны, была революционной.
Шеллинг создал полноценную теорию стратегического взаимодействия, которую в математике и экономике чаще называют теорией игр, при этом он использовал минимальный математический аппарат. Часть этого аппарата появилась только через десять лет в работах Райнхарда Зелтена и Джона Харсаньи, а получили они Нобелевскую премию на десять лет раньше, чем Шеллинг. Третьим лауреатом в 1994 году стал создатель формальной концепции стратегического равновесия Джон Нэш, выдающийся математик и экономист, главный герой фильма “Игры разума”. Однако самый большой вклад в формализацию идей Шеллинга внес Роберт Ауманн.
В аспирантуре Массачусетского технологического института, где Роберт Ауманн занимался не экономикой, а чистой математикой, он познакомился с Джоном Нэшем, который и заинтересовал его теорией игр – в то время лишь зарождающейся дисциплиной. Тогда никто не мог представить, что через несколько десятилетий теория игр станет обязательным инструментом в арсенале любого экономиста, а соответствующий курс будет читаться на всех экономических факультетах мира.
Работы Шеллинга в начале 1960-х позволили взглянуть на стратегии мировых держав свежим взглядом, но к 1970-м появились новые вопросы. Ни одна из сторон не была заинтересована в ядерном конфликте, но в то же время каждая хотела добиться максимума уступок от другой. Напряженность держалась десятилетиями, а любая неосторожность могла привести к катастрофе. Неудивительно, что политики консультировались у специалистов по теории игр. Именно в тот период возникла теория повторяющихся взаимодействий, решающий вклад в которую внес Роберт Ауманн. Основной результат этой теории, известный в экономической науке как “народная теорема”, состоит в том, что при повторяющихся взаимодействиях стороны могут воздерживаться от действий, сулящих им краткосрочную выгоду за счет долгосрочных потерь.
“Народная теорема”, после того как она была сформулирована, перестала производить впечатление на профессиональных математиков – им результат кажется тривиальным. Однако придумать эту теорему, предложить формальное описание конфликта, которое можно использовать и в научной дискуссии, и на практике, построить модель, которая позволит отсечь несущественное и выделить движущие механизмы конфликта, было отнюдь не просто.
Читать дальше
![Константин Сонин Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)] обложка книги](/books/409127/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro-cover.webp)
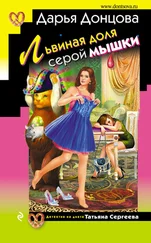


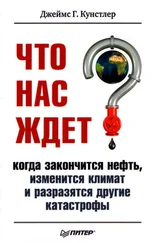



![Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [litres]](/books/409071/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro-thumb.webp)