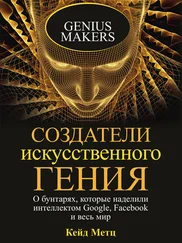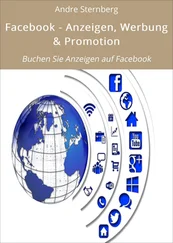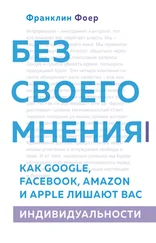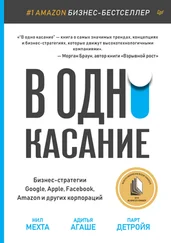Никто не выражает современную веру в способность инженерии изменить общество лучше, чем Цукерберг. Он высказался перед группой разработчиков ПО следующим образом: «Знаете, я инженер и считаю важнейшим компонентом инженерного мышления веру, что можно взять любую из существующих систем и сделать ее гораздо, гораздо лучше. Любую систему, будь то аппаратное или программное обеспечение, частная компания или сообщество разработчиков, – можно сделать гораздо, гораздо лучше». Мир станет совершеннее, если только доводы Цукерберга победят – а так и будет.
Источник силы Facebook – алгоритмы. Этот тезис непременно повторяется почти в каждой статье о технологических гигантах, но для многочисленных пользователей сайтов он остается в лучшем случае туманным. С момента изобретения алгоритма можно было увидеть его мощь, его революционный потенциал. Алгоритм был придуман, чтобы автоматизировать мышление, избавить человека от необходимости принимать трудные решения, прекратить полемику. Чтобы понять суть алгоритма и его претензии быть инструментом строительства утопии, следует вернуться к месту его рождения, в голову одного из несомненных гениев, Готфрида Лейбница.
Будучи на пятьдесят лет младше Декарта, он вырос в такой же среде религиозного конфликта. Его родная Германия, земля Мартина Лютера, превратилась в арену одной из самых страшных боен в истории, спорную территорию в самом сердце Тридцатилетней войны. Хотя на полях сражений смерть собрала свою дань, последствия боев тоже были ужасны. Дизентерия, тиф, чума охватили немецкие княжества. За битвами последовали голод и демографический коллапс, унеся еще примерно четыре миллиона жизней. Наиболее пострадавшие из немецких городов потеряли больше половины населения.
Лейбниц родился, когда Европа обсуждала условия Вестфальского мира, кладущего конец резне, поэтому неудивительно, что он тренировал свой могучий интеллект, изобретая способы примирения католиков с протестантами и создавая планы объединения человечества. Эпитет «могучий», вероятно, слишком слаб для описания умственных возможностей Лейбница. Не погрешив против истины можно сказать, что он был способен генерировать новый план с каждым вдохом и выдохом. Его архивы, до сих пор не опубликованные полностью, содержат около двухсот тысяч страниц, заполненных великолепными творениями. Он открыл дифференциальное и интегральное исчисление, не зная, что Ньютон опередил его, но именно нотацией Лейбница мы пользуемся до сих пор. Он оставил ценные работы по метафизике и теологии, проектировал часовые механизмы и ветряные мельницы, отстаивал необходимость создания всеобщей системы здравоохранения и разработки подводных лодок. Будучи в Париже в качестве дипломата, он убеждал Людовика XIV вторгнуться в Египет.
Разумеется, это был хитрый план втравить могучего соперника Германии в заморскую авантюру, чтобы ему стало труднее направить свои армии на восток. Дени Дидро, сам далеко не бездарность, жаловался: «Когда пытаешься сравнить свои скромные таланты с дарованием Лейбница, возникает искушение забросить свои книги, забиться в укромный уголок и умереть там».
Из всех построений Лейбница дороже всех ему было понятие, которое он сам называл «универсальной наукой», – и оно тоже возникло из его стремления к миру. На протяжении всей человеческой истории далекие от жизни ученые конструировали языки с нуля, рассчитывая, что их творения упростят взаимопонимание между людьми и создадут таким образом предпосылки для всемирного единства. Для Лейбница эта причина также имела вес, но он возлагал на свое творение и более возвышенные надежды. Он утверждал, что новый набор условных знаков и выражений приведет науку и философию к новым истинам, в новую эру разума, к более глубокому пониманию изящества и гармонии вселенной, наконец, к божественному.
Он представлял себе нечто вроде «алфавита человеческой мысли». Впервые он обратился к этой идее в юности, и она послужила основой для его докторской диссертации в Альтдорфском университете. Со временем он разработал детальный план превращения своей мечты в реальность. Группа ученых должна составить энциклопедию, содержащую фундаментальные, неоспоримые понятия из области знаний об окружающем нас мире, из физики, философии, геометрии – отовсюду. Он называл эти понятия «примитивами», и они должны были включать в себя, например, почву, красный цвет и Бога. Каждому из примитивов предполагалось присвоить численное значение, и таким образом их можно было бы комбинировать с целью создания новых понятий или выражения сложных из числа существующих. Все эти численные значения должны были заложить основу нового «исчисления мысли», которое он называл “calculus ratiocinator”.
Читать дальше
![Франклин Фоер Без своего мнения [Как Google, Facebook, Amazon и Apple лишают вас индивидуальности] [litres] обложка книги](/books/405388/franklin-foer-bez-svoego-mneniya-kak-google-faceb-cover.webp)


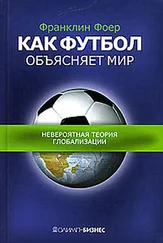
![Анетте Яспер - Зубы. Как у вас дела? [litres]](/books/390352/anette-yasper-zuby-kak-u-vas-dela-litres-thumb.webp)
![Александр Харников - Русские своих не бросают - Балтийская рапсодия. Севастопольский вальс. Дунайские волны [сборник litres]](/books/393451/aleksandr-harnikov-russkie-svoih-ne-brosayut-balti-thumb.webp)
![Андреас Штипплер - Мышцы. Как у вас дела? [litres]](/books/394280/andreas-shtippler-myshcy-kak-u-vas-dela-litres-thumb.webp)
![Глеб Васильев - Единственный [litres самиздат]](/books/436960/gleb-vasilev-edinstvennyj-litres-samizdat-thumb.webp)