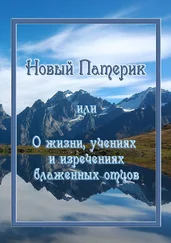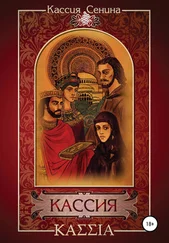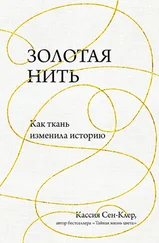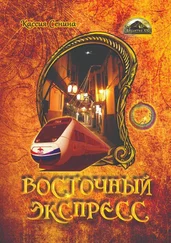В 70-е годы экологическая тема прочно утвердилась в умах общественности. Фотоснимок земного шара, сделанный астронавтами «Аполлона-17» 7 декабря 1972 года по пути на Луну [587], впервые продемонстрировал, насколько уязвим наш мир. Фото под названием «Голубой шарик» стало одним из самых узнаваемых и популярных в истории изображений Земли. Художники Роберт Смитсон и Джеймс Тёррел (и другие) в русле нового вида искусства – лэнд-арта – использовали землю как материал для создания ландшафтных инсталляций. Их работы кричали о хрупкости Земли, оспаривая устоявшее представление о нашей планете как о чем-то незыблемом и неисчерпаемом [588]. В это время зеленый цвет окончательно утвердился в качестве символа и синонима живой природы. Конечно, связь зеленого с природой имеет глубокие исторические корни – в Древнем Египте зеленый цвет обозначали иероглифом в виде стебля папируса, – но в 1970-е годы эта связь стала повсеместной [589]. В 1972 году небольшая организация под названием Don’t Make Waves Committee (комитет «Не поднимайте волну») изменила имя на Greenpeace. В 1973 году в Англии была основана партия PEOPLE («Народ»), ставшая предтечей Британских зеленых; в 1979-м появился ее немецкий аналог – Die Grünen; французские экологисты Les Verts консолидировались в 80-е.
Растущая озабоченность состоянием окружающей среды воплотилась в палитре натуральных, природных тонов, стремительно набиравших популярность, – «жженый апельсин» (burnt orange), «золотой урожай» (Harvest gold) и, прежде всего, авокадо. Этот оттенок, сегодня представляющийся таким старомодным, в 70-е был одним из главных цветов. Покупатели изо всех сил демонстрировали заботу о судьбах окружающей среды, и ассортимент потребительских товаров – одежды, кухонной утвари, ванн и даже машин – был колонизирован этим дымчатым желто-зеленым оттенком.
Попытки искупления грехов человечества перед природой через «экологический» консьюмеризм могут представляться безнадежно наивными, но похожее потребительское поведение доминирует и сегодня. И авокадо незаметно и неспешно возвращается на ведущие позиции с начала тысячелетия. Тем, кто в этом сомневается, достаточно взглянуть на ленту своего «Инстаграма». И если фанатов макраме или ворсистых ковров ручной работы цвета авокадо там явно не миллионы, то изображение Persea Americana (односеменной плод авокадо) стало символом потребления, основанного на концепции престижного сейчас здорового образа жизни. Любовно размазанные по ломтям тостов – везде от Южной Калифорнии до городка Слау в Великобритании – плоды авокадо превратились в краеугольный камень брендированной моды на здоровое питание и естественный стиль жизни. Авокадо – источник немногих полезных для сердца «хороших» жиров, на этом дружно сходятся все диетологи, поэтому импорт авокадо растет как на дрожжах. Только в 2011 году объем продаж составил 2,9 млрд долларов, увеличившись на 11 % по сравнению с предыдущим годом. Как заметил репортеру Wall Street Journal маркетинговый директор Мексиканской ассоциации экспортеров авокадо Майк Браун в 2012 году, «звезды сошлись» [590].

Жизнь Оноре д’Юрфе была весьма драматичной. Его бросили в тюрьму за политические убеждения. Он провел бо́льшую часть жизни в изгнании в Савойе, женился на прекрасной вдове своего брата, чтобы сохранить ее состояние в семье д’Юрфе [591]. Вероятно, переизбыток интриг, участником которых ему довелось стать, и подвиг его на написание ностальгического романа «Астрея» с чрезвычайно запутанным сюжетом. Этот гигантский 5399-страничный опус в 60 томах выходил частями, с 1607 по 1627 год. Пасторальная комедия неторопливо рассказывала о бесплодных попытках страдающего от неразделенной любви пастуха Селадона добиться взаимности от пастушки Астреи [592]. Несмотря на феноменальную длину романа и невероятный набор персонажей, произведение д’Юрфе стало хитом своего времени. Его перевели на множество языков, переиздавали по всей Европе, на его основе был поставлен спектакль, а модники оделись в зеленые тона девственного леса à la Céladon [593].
Образ несчастного влюбленного так стойко ассоциировался с этим оттенком мглистой лесной зелени, что слово «селадон» вскоре стало нарицательным. Селадоном начали называть керамику, окрашенную глазурью похожих тонов, которая попадала в Европу с Дальнего Востока. Китайцы научились производить селадон за много веков до того, как пастушок д’Юрфе повстречался со своей Астреей. Китайский селадон обычно был серовато-зеленой раскраски – хотя оттенки его могли варьироваться очень сильно: от тонов синего и серого до охряных и даже черных – для этих керамических изделий характерно присутствие примесей железа в глине и примесей оксида железа, оксида марганца и кварца в глазури [594]. Обжиг селадоновой посуды обыкновенно проводился при температуре в 1150 °C с резким понижением уровня кислорода в процессе. Многие образцы селадоновой керамики покрыты сетью тончайших – как жилки листа – декоративных трещин; их наносят специально, чтобы посуда походила на нефрит [595]. Впервые селадон начали производить в Китае, но похожей техникой пользовались и корейские мастера-гончары в период династии Корё (918–1392). Китайский селадон отличается огромным разнообразием форм, расцветок и стилей в зависимости от региона и эпохи [596].
Читать дальше
![Кассия Сен-Клер Тайная жизнь цвета [litres] обложка книги](/books/405253/kassiya-sen-kler-tajnaya-zhizn-cveta-litres-cover.webp)

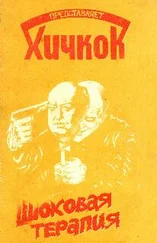
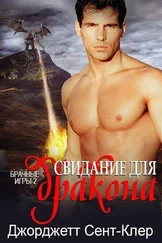

![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю. [калибрятина]](/books/400123/kassiya-sen-thumb.webp)
![Гийом Мюссо - Тайная жизнь писателей [litres]](/books/407432/gijom-myusso-tajnaya-zhizn-pisatelej-litres-thumb.webp)
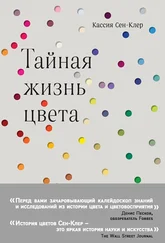
![Константин Муравьев - Тайная жизнь города [litres]](/books/435550/konstantin-muravev-tajnaya-zhizn-goroda-litres-thumb.webp)
![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю [litres]](/books/438680/kassiya-sen-thumb.webp)