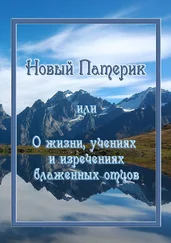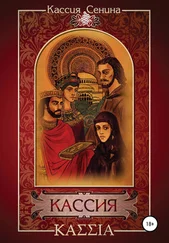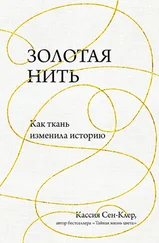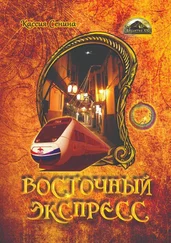После череды смертей, сопровождавшихся похожими симптомами, доктора и ученые подвергли исследованиям все потребительские продукты зеленого цвета. Статья, опубликованная в 1871 году в British Medical Journal , отмечала, что зеленые обои есть в домах любого уровня – «от дворцов до хижин»; в образце такой бумаги площадью в шесть дюймов (ок. 40 кв. см) содержится количество мышьяка, достаточное для того, чтобы отравить двоих взрослых [573]. Джордж Оуэн Риис, врач в лондонской больнице имени Гая, подозревал, что один из его пациентов был отравлен через ситцевый балдахин над кроватью. Углубившись в исследования, в 1877 году он, к своему ужасу, обнаружил, что «некоторые муслиновые ткани прекрасного светло-зеленого тона», которые используют для пошива дамского платья, содержат более 60 гран [574]различных соединений мышьяка на каждый квадратный ярд. «Только представьте, сэр, – писал он в The Times , – какова должны быть атмосфера в бальном зале, в котором развевающиеся в танце юбки беспрерывно насыщают воздух ядовитым мышьяком!» [575]
Шееле с самого начала знал о том, что пигмент, названный его именем, содержит смертельный яд: он писал об этом своему другу в 1777 году и добавлял, что другая его главная забота – чтобы кто-нибудь не опередил его, присвоив все почести (и прибыль) от открытия [576]. Владелец фабрики Zuber & Cie в Мулхаус писал некоему профессору в 1870 году о том, что этот пигмент, «такой прекрасный и яркий», теперь поставляется в слишком малых количествах. «Стремление запретить даже малейшие следы мышьяка в бумаге заходит слишком далеко, – продолжал фабрикант, – это наносит бизнесу несправедливый и напрасный урон» [577]. Общественность, похоже, дружно с этим согласилась, и никаких законов, запрещающих использование зелени Шееле, так и не было принято. Сейчас это выглядит странным, но нужно учитывать, что в те времена мышьяк и связанные с ним опасности воспринимались более сдержанно. Даже после массового отравления в 1858 году, когда пакет порошка белого мышьяка перепутали с сахарной пудрой и добавили в партию мятных леденцов в Брэтфорде, потребовалось довольно много времени, чтобы сформировалась идея ограничить поставки мышьяка и снабдить упаковки с ним предупреждающими знаками [578].
Либеральное отношение XIX века к ядовитым субстанциям неожиданно нашло поддержку и в наше время – исследователи Итальянского национального института ядерной физики в 2008 году положили конец спорам о причине смерти Наполеона. Они проверили другие образцы волос императора, собранные в разное время его жизни, и обнаружили, что уровень содержания мышьяка в них оставался относительно стабильным. Этот уровень, конечно, был очень высок по теперешним стандартам, но совершенно нормален по меркам того времени [579].
Глауконит («зеленая земля»)

Читая трактаты и справочники художников древности, тяжело отделаться от мысли о том, что создание прекрасных и долговечных произведений искусства тогда зачастую было сродни сизифову труду. Пигменты почти постоянно капризничали, вступая в реакции с другими красителями или меняя со временем цвет, как ярь-медянка ( см. здесь); они были либо откровенно опасными для жизни, как опермент ( см. здесь) и свинцовые белила ( см. здесь), либо невероятно дорогими или труднодоступными, как ультрамарин ( см. здесь). Таким образом, если бы нашелся совершенно стабильный краситель, запасы которого были бы относительно велики, да еще и цвет его приходился на ту часть спектра, выбор в которой был бы небогат, такой пигмент пользовался бы бешеным спросом. Однако пример глауконита говорит о том, что все не так просто.
Зеленая земля, также известный как terre verte , или «веронская зелень», – смесь минеральных красящих веществ естественного происхождения. Ее состав и оттенки сильно менялись в зависимости от региона происхождения. Основными носителями зеленой окраски обычно выступают глауконит и селадонит, но «зеленая земля» может включать и другие минералы [580]. Этот пигмент добывали в больших количествах в самых разных районах Европы, самыми знаменитыми из которых являются Крит и Верона; его оттенки меняются в очень широком спектре – от зелени густого леса до почти «крокодилового» зеленого – и могут даже дать прекрасный цвет «морского тумана». Недостаток «зеленой земли» – слабая насыщенность цвета, но все виды глауконита стабильны и постоянны, достаточно прозрачны, прекрасно взаимодействуют со всеми основами и растворителями, придают особенную, почти «сливочную» текстуру маслам и, что особенно важно, легкодоступны, в отличие от подавляющего большинства других зеленых пигментов. И тем не менее художники пишут о глауконите, как будто составляют характеристику школьнику – благонамеренному, но напрочь лишенному хоть какой-то изюминки, серому, невыдающемуся середняку. Джордж Филд в своей «Хроматографии», опуликованной в середине XIX века, посвятил «зеленой земле» строки, которые можно назвать безразлично-типическими:
Читать дальше
![Кассия Сен-Клер Тайная жизнь цвета [litres] обложка книги](/books/405253/kassiya-sen-kler-tajnaya-zhizn-cveta-litres-cover.webp)

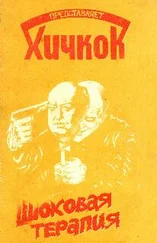
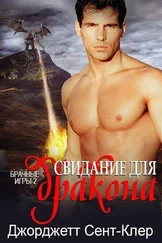

![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю. [калибрятина]](/books/400123/kassiya-sen-thumb.webp)
![Гийом Мюссо - Тайная жизнь писателей [litres]](/books/407432/gijom-myusso-tajnaya-zhizn-pisatelej-litres-thumb.webp)
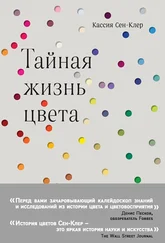
![Константин Муравьев - Тайная жизнь города [litres]](/books/435550/konstantin-muravev-tajnaya-zhizn-goroda-litres-thumb.webp)
![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю [litres]](/books/438680/kassiya-sen-thumb.webp)