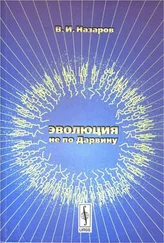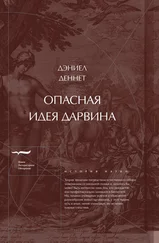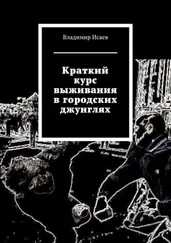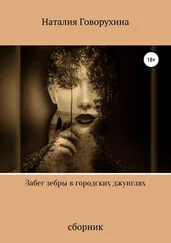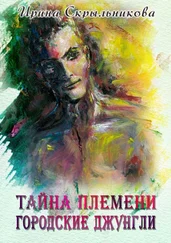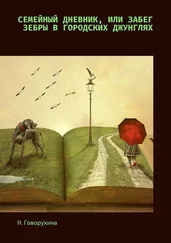Какие-то виды обустраиваются в вышеописанной инфраструктуре – те же подвальные комары, о которых я писал в предисловии, образуют отдельные популяции на каждой ветке метро. Или, например, пауки-сенокосцы Pholcus phalangioides , которых изучал в постройках пяти европейских городов Мартин Шэфер из Боннского университета. Он выяснил, что у пауков, живущих в разных комнатах одного здания, генофонд общий, а вот у обитателей разных зданий генофонды разные. Пауки переползают из комнаты в комнату, но из дома в дом не переселяются.
Среди биологов бытует мнение, что такая фрагментация генофонда не способствует выживанию вида. Дело в том, что в небольших изолированных популяциях часто происходят близкородственные скрещивания, или инбридинг: если у родственника особи есть какое-либо генетическое нарушение, значит, скорее всего, оно есть и у самой особи, а при их спаривании будет и у потомства. Кроме того, генетическая изменчивость может сойти на нет из-за случайных событий. Если тот или иной вариант гена есть у пяти процентов особей в большой популяции, то речь может идти о сотнях особей – вряд ли все они погибнут, не успев произвести на свет детенышей. А вот если популяция маленькая, может случиться так, что все обладатели того самого генного варианта не оставят потомства и заберут его с собой в могилу. Постепенное исчезновение генетической изменчивости в небольшой популяции называется дрейфом генов. Из-за дрейфа и инбридинга генетическое здоровье популяции ухудшается: учащаются случаи генетических заболеваний, популяция теряет способность адаптироваться к меняющимся условиям.
Именно поэтому борцы за охрану природы пытаются добиться создания экологических коридоров для связи животных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Многие виды попросту не выдерживают жизни в разделенной на части городской среде. Но пока они держатся на плаву, из-за хаотичности дрейфа и инбридинга каждая изолированная популяция получает собственный набор генов. Именно так исследователи узнают о генетической фрагментации в геномах рыжих рысей, ожереловых попугаев, белоногих хомячков и других видов, чьи генофонды больше не смешиваются.
Но не все виды с изолированными генофондами со временем вымирают, заявляет Манши-Саут. «Есть и другие виды, на которые мы не обращаем внимания – они просто есть, и все. Они меня и интересуют». К таким и относятся белоногие хомячки. Несмотря на то что профиль генной экспрессии в каждом парке у них свой, нет никаких признаков того, что хомячки страдают от последствий кровосмешения и дрейфа генов – напротив, они живут и процветают. «Полагаю, если популяции вида достигли относительно высокой плотности в разных частях города, ничего плохого с этим видом не случится».
Манши-Саут утверждает, что популяции хомячков в разных парках обязаны разными генетическими профилями не только инбридингу и дрейфу генов, но и так называемой локальной адаптации. В каждом парке обитает своя изолированная группа белоногих хомячков. Поскольку из парка этим хомячкам никуда не деться, ничто не мешает им как следует приспособиться к существующим условиям.
Чтобы изучить этот занимательный вопрос подробнее, Манши-Саут и его студент Стивен Харрис взялись за новаторский генетический проект. Они наловили хомячков в нескольких парках Нью-Йорка и за пределами города. Нужно было изучить не несколько случайных маркеров в геноме, а целый ряд активных генов в органах грызунов. Увы, во имя городской науки пойманным хомячкам пришлось пожертвовать не только кончиком хвоста. Исследователи умертвили всех особей и вынули печень, головной мозг и половые железы, чтобы извлечь из них так называемую матричную РНК (мРНК) – ген копируется на нее перед тем, как клетка создает белок на основе генного кода. По извлеченным из организма мРНК можно понять, какие гены активно в нем используются, и определить точные последовательности их ДНК.
Из этого огромного количества генетической информации исследователи выбрали гены, которые различались между парками настолько сильно, что вряд ли это было обусловлено случайностью. В разных парках они, очевидно, эволюционировали в разных направлениях. Так, в Сентрал-парке у хомячков нашлись явные аномалии в гене AKR7. Этот ген отвечает за нейтрализацию афлатоксинов – ядовитых канцерогенных веществ. Плесень, которая их вырабатывает, растет на орехах и семенах. Почему-то хомячки в Сентрал-парке подвержены воздействию этих веществ больше всего – возможно, дело в выбрасываемой там еде. Также у белоногих обитателей Сентрал-парка интересно выглядит ген FADS1, участвующий в переработке богатых жирами продуктов, – еще один признак того, что эволюция помогает этим грызунам переваривать типичную для данного места пищу. У хомячков из других парков заметно отличались другие гены, в основном связанные с питанием или загрязнением окружающей среды. Некоторые выбранные гены имели отношение к иммунной системе. «Логично, – добавляет Манши-Саут. – В небольшой популяции болезни распространяются быстро».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
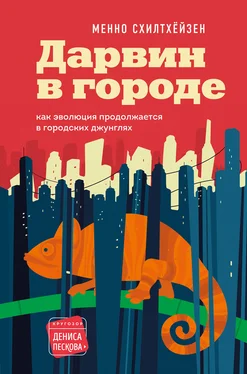

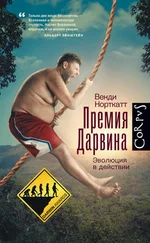
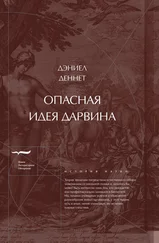
![Коллектив авторов - Эволюция. От Дарвина до современных теорий [litres]](/books/402547/kollektiv-avtorov-evolyuciya-ot-darvina-do-sovremen-thumb.webp)