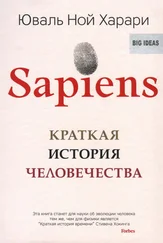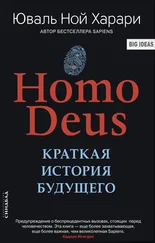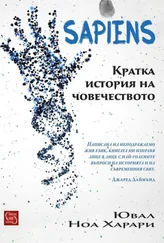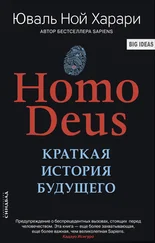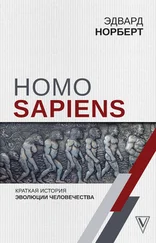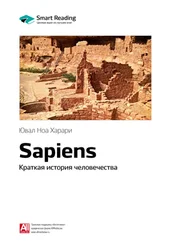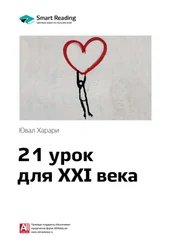Оседлый земледелец потерял не только значительную часть свободной земли, на которой кочевали его предки, – он оказался в искусственном, далеком от природы ландшафте. Охотники-собиратели мало что меняли на территориях, где странствовали, если не считать умышленных поджогов. Земледельцы же жили в рукотворных оазисах, которые усердно отвоевывали у окружавшей их дикой природы. Они вырубали леса, рыли каналы, расчищали землю под луга и поля, строили дома, прокладывали глубокие борозды и стройными рядами сажали плодовые деревья. В результате складывалась среда, пригодная лишь для человека и «его» животных и растений. Этот вырванный у природы участок еще и обносили забором или стеной. Земледельцы вели оборонительную войну против сорняков и хищников и, если кто-то из этих врагов проникал на огороженную территорию, его тут же изгоняли, а если растение или животное сопротивлялось, люди находили способ его уничтожить. Самую надежную защиту устанавливали вокруг самого «человеческого» пространства, то есть собственно дома. С первых шагов архитектуры и по нынешний день миллиарды людей, вооруженных ветками, мухобойками, тапочками и газовыми баллончиками, не на жизнь, а на смерть ведут войну с деловитыми муравьями, увертливыми тараканами, предприимчивыми пауками и заблудшими козявками, которые постоянно проникают в человеческое жилище.
Большую часть исторического времени созданные человеком анклавы оставались очень маленькими, на них со всех сторон наступала неприрученная природа. Поверхность Земли составляет примерно 518 миллионов квадратных километров, из них 150 миллионов занимает суша. И даже в XIII веке н. э. подавляющее большинство крестьян вместе со своими растениями и животными ютились на территории площадью всего 11 миллионов квадратных километров – на 2 % поверхности планеты 33. Во всех остальных местах им было слишком холодно или слишком жарко, слишком сухо или слишком влажно, или что-то мешало возделывать землю. 2 % земной поверхности – вот и вся сцена, где разворачивалась история.
И покидать свои искусственные острова человек не хотел. Расстаться с домом, полем, виноградником – тяжкая утрата и большой риск. К тому же со временем человек обрастал малотранспортабельным имуществом, которое опять-таки привязывало его к месту. Нам древний крестьянин покажется жалким бедняком, но у него с семейством было больше вещей, чем у целого кочевого племени. Для возделывания земли требуется целый набор орудий и различные припасы. Постоянный дом также дал человеку возможность производить и накапливать все большее количество все менее необходимых предметов роскоши, без которых он вскоре уже и не представлял себе существования. Значительная часть деятельности, верований и даже эмоций была направлена на всевозможные артефакты.
Охотники-собиратели не загадывали дальше следующей недели или месяца. Крестьяне же в своем воображении, строя планы, уносились в будущее на годы и десятилетия.
Кочевники особенно не думали о завтрашнем дне, поскольку всю добытую пищу сразу же и потребляли: при их образе жизни было затруднительно сохранять пищу или накапливать имущество. Конечно, некоторые планы они тоже строили. Можно с большой уверенностью предположить, что художники Шове, Ласко и Альтамиры создавали картины в расчете не только на свое поколение. Заключались долгосрочные дружественные союзы, так же от отцов к детям передавалась и вражда. Порой уходили годы на то, чтобы воздать добром за добро или злом за зло. Тем не менее экономика охоты и собирательства по самой своей сути препятствовала долгосрочному планированию. И это, как ни парадоксально, избавляло кочевников от многих треволнений. Какой смысл переживать о том, что не в твоей власти?
Аграрная революция придала будущему небывалое прежде значение. Земледелец вынужден постоянно думать о будущем и работать на него. Ведь в основе аграрной экономики лежит сезонный цикл производства: долгие месяцы подготовительных работ и короткий напряженный период сбора урожая. В ночь после сбора обильного урожая крестьяне могли закатить пир и празднество, но уже через неделю им вновь предстояла тяжелая работа от рассвета до заката: хотя ближайшие недели и даже месяцы были обеспечены пищей, они уже думали о следующем годе и о том, который наступит после него.
Постоянная забота о будущем была связана не только с сезонными циклами производства. Сельское хозяйство само по себе – не такой уж надежный источник существования. Поскольку большинство деревень жило за счет весьма ограниченного набора одомашненных растений и животных, в любой момент засуха, наводнение или заразная болезнь могли все погубить. Требовалось производить больше пищи, чем можно потребить, – чтобы делать запасы. Если в амбаре не будет зерна, в подвале сосудов с оливковым маслом, в кладовке сыров и свешивающихся с балок колбас, в неурожайный год все умрут с голоду. А неурожаи непременно будут, раньше или позже – никто не знает. Крестьянин, возомнивший, что изобилие продолжится вечно, долго не проживет.
Читать дальше
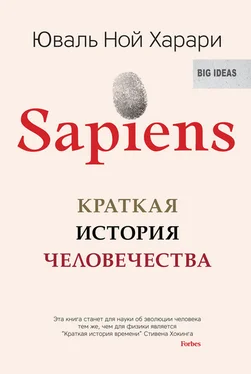


![Юваль Ной Харари - Sapiens. Краткая история человечества [litres]](/books/34310/yuval-noj-harari-sapiens-kratkaya-istoriya-cheloveche-thumb.webp)