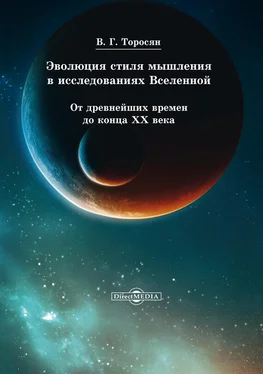В картине, создаваемой таким образом атомистической концепцией, сперва возникает из вихрей оболочка, отгораживающая космос (заметим, что теперь уже это понятие используется совершенно однозначно – как мир, вселенная) от внешнего пустого пространства и обеспечивающая космосу стабильность. Далее в космогоническом процессе образуются звезды, планеты и т. д. Даже боги рассматриваются как образованные из атомов, но таких, чье сочетание особенно устойчиво. Нельзя обойти вниманием догадку Демокрита, что звезды – это солнца, которых может быть бесконечное количество, самых различных, в том числе не имеющих планет; Млечный путь, в свою очередь, рассматривается как скопление звезд. Допущение бесконечного количества атомов, которое понадобилось для объяснения многообразия явлений окружающего мира, закономерно подводит к выводу о бесконечном количестве многообразных миров, рождающихся и погибающих в вечной бесконечной Вселенной. Столь же органичен вывод Демокрита об относительности понятий верх и низ (из чего впоследствии Тит Лукреций Кар вывел заключение, подготовленное концепцией Демокрита также и в аксиологическом плане, что Земля не может считаться центром Вселенной). Чтобы понять дальнейшую судьбу атомистической программы Левкиппа-Демокрита, надо принять во внимание,, что она явилась своеобразным логическим завершением линии «физики», которая, начавшись от Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита, и затем, обогатившись осмыслением проблем, поднятых элеатами, шла далее через Эмпедокла и Анаксагора. Правда, атомистическая концепция и после Демокрита смогла привести к ряду блестящих новых догадок, сделанных, кстати уже значительно позже, в эпоху эллинизма, когда произошло кратковременное возрождение интереса к атомизму (Лукреций, Эпикур, допустивший спонтанность движения атомов, их различия не только по форме, но и по весу, объяснявший ощущения не самими атомами, а их совокупностью и т. д.). Тем не менее, античная атомистическая программа, по существу, исчерпала себя уже при Демокрите. Это объясняется в первую очередь умозрительным характером атомистической концепции. Созданная для объяснения природных явлений, она в течение многих веков, по существу, не получала никаких опытных подтверждений. К тому же в атомистической программе уже тогда назревали противоречия, не разрешаемые средствами спекулятивной космологии. Характерно, что Сократ, современник Демокрита, завещал своим ученикам не заниматься вопросами движения небесных светил, их происхождения и т. д.: «все это навсегда останется тайной для смертного, и, конечно, самим богам прискорбно видеть старания человека разгадать то, что угодно было им навсегда скрыть от него непроницаемой завесой» 164 164 Цит. по: Гурев Г. А. Системы мира от древнейших времен до наших дней. М., 1950, с. 42.
.
Подобная ситуация привела к тому, что одна из самых блестящих программ в истории научной мысли не закрепилась, не утвердилась в уже чуждой ей социокультурной среде более поздней античности (подвергаясь даже осмеянию, особенно в платоновской академии) 165 165 См.: в частности, Асмус В. Ф. Античная философия, с. 149.
. В средние века и даже эпоху Возрождения атомистическая концепция попросту была предана забвению, явившись по-настоящему созвучной лишь механистическому материализму XVII – XVIII вв. Вскоре после Демокрита с Платоном произошел переход к альтернативной программе, метко охарактеризованный С. Тулмином как сдвиг «от ингредиентов к аксиомам» 166 166 См. Toulmin S., Goodfield J. The Fabric of ihe Heavens, p. 69.
. Атомистическая программа на длительное время оказалась вытесненной, особенно в космологии, набирающей силу программой, направленной на поиск математических сущностей и принципов, которые предполагались лежащими в основе мироздания. В условиях нарождающейся науки эта программа импонировала тем, что вместо качественных и, по существу, бездоказательных описаний обращалась к поиску количественно, математически выражаемых закономерностей, апеллируя не к натурфилософскому воображению, а к строгому языку математики (хотя в действительности, как мы увидим, это нисколько не предотвращало еще больших спекуляций).
В космологии указанная программа утвердилась особенно прочно, не в последнюю очередь, потому что, оставив в стороне вопросы о механизме космообразования, фокусом своего приложения сделала видимые перемещения небесных тел, их расстояния и т. д., увязывая натурфилософские умозрения с конкретными астрономическими данными. Регресс в общенаучном и общефилософском смысле, очевидный при переходе к такой программе, компенсировался ощутимыми успехами, достигнутыми благодаря ей, и прежде всего, в вычислительной астрономии. Эти успехи связывались в наибольшей степени с именами математиков Архнта и Эвдокса, а также Платона, в значительной степени инспирировавшего и даже прямо направившего их исследования, обеспечив при этом философскую (мировоззренческую, аксиологическую, гносеологическую) базу этого направления. Платон (428 – 348) довел принятую им исследовательскую программу (особенно в космологии) до чрезвычайно высокой степени разработанности, способствовавшей ее утверждению в науке на столь длительное время, что влияние этой программы прослеживается даже в астрономии позднего Возрождения. Истоки ее, однако, обнаруживаются в пифагореизме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу