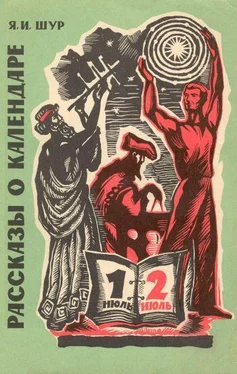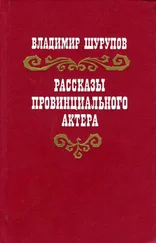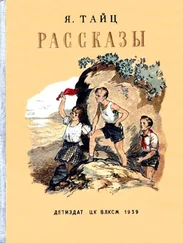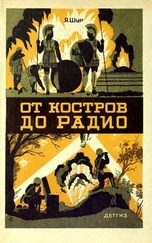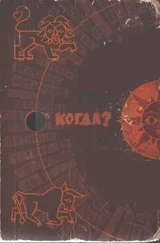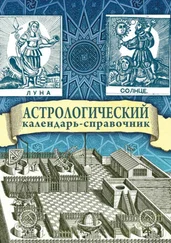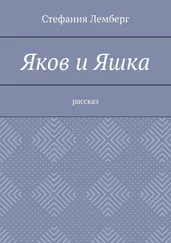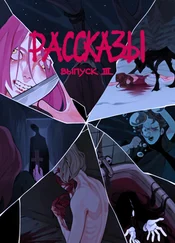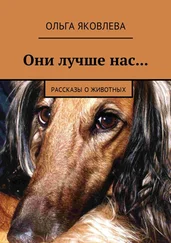Только через шесть лет римляне подавили восстание и после жестоких истязаний казнили Евна. Однако рабы еще долго не верили в смерть своего спасителя и надеялись, что он вновь поведет их на победоносные битвы.
Немало таких спасителей было и после Евна, но рабам так и не удалось завоевать желанную свободу. Дорогой ценой оплачивались восстания: тысячи людей были замучены в тюрьмах и распяты на крестах.
Однако грандиозное восстание Спартака в 74–71 годах до нашей эры своей грозной мощью вновь ужаснуло рабовладельцев. Они поняли, что защитить их от бунтующей «черни» может только всесильный диктатор-монарх, единодержавный повелитель, объединяющий в своих руках высшую государственную и военную власть. Римская республика превратилась в империю.
Первым императором в 27 году до нашей эры был провозглашен Октавиан, получивший от сената священный титул Августа. Его статуям в храмах приносили жертвы, поэты слагали торжественные стихи, обожествляя «обожаемого» Августа. Его преемники также возвеличивали себя, как живых богов, намереваясь создать таким способом общегосударственную религию.
Единой религии все-таки не получилось, но единодержавная власть надежно охраняла рабовладельцев. Еще больше усилилась эксплуатация порабощенных людей, и без пощады подавлялись даже малейшие их попытки противиться воле хозяев.
Кровавые расправы устрашили рабов, и бессильное отчаяние сковало их волю крепче железных цепей. Им уже не на что было надеяться, разве только на чудо — и тогда появились другие «спасители».
В многоплеменной Римской империи до поры до времени мирно уживались религиозные верования разных народов. Каждый поклонялся тем богам, каким хотел, но больше всего почитали египетского Осириса, сирийского Адониса, и даже в самом Риме было построено святилище фригийскому Аттису.
Все эти боги, подобно вавилонскому Таммузу, ежегодно умирали и воскресали, знаменуя увядание и возрождение растений. Но уже мало кто верил таким небылицам — на смену им возникли новые. В отдаленных римских провинциях — Малой Азии, Сирии, Египте — появилось множество всевозможных проповедников — «пророков». Они предсказывали, что скоро-скоро снизойдет на землю сверхъестественный спаситель, который своими страданиями избавит всех униженных и обиженных от гнета и рабства.
Не только бесправные рабы, но и разоренные земледельцы, бежавшие в города, бродяги и безработные ремесленники искали утешения в религиозных общинах. Здесь нищие, голодные люди хотя бы на время забывали о своей безысходно горькой участи, с восторгом внимая страстным речам проповедников. И как было не верить этим «пророкам», предвещавшим близкое освобождение всех страждущих и обездоленных!
Пророки были удивительно искусными, красноречивыми ораторами. Иной раз они произносили свои зажигательные речи в самозабвенном экстазе. Но чем менее понятны были их слова, тем восторженней внимали им потрясенные слушатели: наверно, устами провозвестника новых истин глаголет тот неведомый бог, от имени которого изрекает пророк проклятия господам.
Проповедники нового бога многое заимствовали из древних верований и легенд восточных народов.
Была в Египте утешительная притча для бедняков: не горюйте, мол, что вам приходится голодать на земле, в награду за это вы будете после смерти блаженствовать на небесах, а злых богачей постигнет суровое загробное возмездие.
Для проповедников старинная притча была бесценной находкой. Словно зачарованные, слушали ее отчаявшиеся люди: отраднее всего верить в то, что близко затаенной мечте, и слезы умиления блестели в их запавших глазах, и пламенной надеждой на небесную справедливость преисполнялись их сердца…
Много богов было у каждого из древних народов. Если не считать неудачных попыток фараона Аменхотепа IV — Эхнатона, а позже вавилонских царей ввести единобожие, в одного-единственного господа уверовали впервые евреи, и то не сразу.
Больше трех тысяч лет назад евреи Северной Палестины, как и другие семиты, поклонялись богу Иешуа, почитали они и своего умирающего и воскресающего Шалема. Разумеется, этому богу плодородия не полагалось вести холостую жизнь: у Таммуза была возлюбленная Иштар, у Осириса — Исида, у Аттиса — Кибела, а Шалем полюбил красавицу — свою сестру и невесту Шуламмиту, возродившуюся позже под именем Суламиты (Суламифи) в поэтической «Песне песней».
Вероятно, при очередном сокращении штата богов Шалем слился воедино с богом Иешуа — спасителем от неурожая. Счастливое это имя давали многим мальчикам: так назвали внука вавилонского царя Хаммурапи, и один из библейских пророков носил священное имя — Иешуа (или, как произносили греки, Иисус) Навин.
Читать дальше