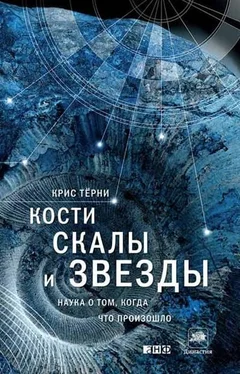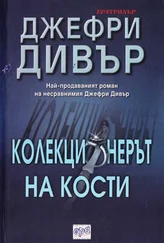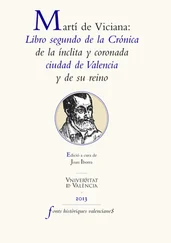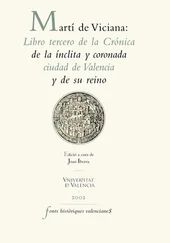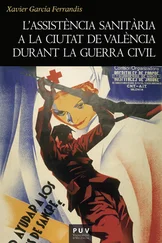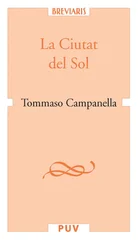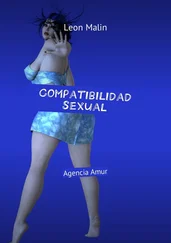С месяцем и днем сотворения дело обстояло несколько сложнее. Предполагалось, что Господь создал Вселенную в момент равновесия между Солнцем и Землей, то есть либо во время солнцестояния, либо во время равноденствия. Согласно Книге Бытия, когда Адам и Ева вошли в Райский Сад, плод уже созрел. Отсюда Ашшер сделал вывод, что сотворение мира должно приходиться на осеннее равноденствие в северном полушарии. Если Господь отдыхал на седьмой день, выпадавший по иудейской традиции на субботу, сотворение должно было начаться в воскресенье.
По имеющимся астрономическим таблицам Ашшер высчитал, что осеннее равноденствие в год Творения попадало на вторник, 25 октября. Всего днем раньше принятого счета, по которому Солнце было создано на четвертый день, то есть в среду. Почти в яблочко. Кстати, к вящей путанице будущих историков, Ашшер с большим подозрением относился к «папистам» и свои вычисления производил по юлианскому календарю, который еще действовал на Британских островах, — отсюда и странность с осенним равноденствием в октябре. В общем, в 1654 г. н. э. Ашшер объявил: «Каковое начало времен согласно нашей хронологии выпало на вечер, предшествующий двадцать третьему дню октября в год по юлианскому календарю 710-й».
В XVII в. у Ашшера и прочих историков было в ходу довольно абстрактное понятие «юлианского периода» (не путать с юлианским календарем). Под ним подразумевался воображаемый период времени, предшествующий Творению. Изначально юлианский период позволял историкам связывать между собой «даты» из разных документальных источников (независимо от их религиозной или культурной принадлежности), получая летопись истории Земли. С помощью этой системы счета Ашшер определил дату Творения как 710 лет с нулевого года или, как бы мы написали сегодня, 4004 г. до н. э. И хотя эту дату высмеивали несколько поколений, Ашшер все же бросил серьезный вызов ранней науке.
К XVIII в. по Европе пошли пересуды, что дата определенно неверна. В 1721 г. в своей сатире на Францию под названием «Персидские письма» барон Монтескье задавался вопросом: «Как могут люди, понимающие природу и имеющие разумное представление о Боге, верить, что материя и тварный мир насчитывают только 6000 лет?» К середине 1700-х решили внести свою лепту и философы: француз Дени Дидро предположил, что возраст мира исчисляется миллионами лет, а в 1755 г. его поддержал и немец Иммануил Кант.
Пожалуй, одним из самых известных противников даты, высчитанной по Библии, стал француз Жорж-Луи Леклерк, он же граф де Бюффон. Он ставил эксперименты, определяя степень внутреннего нагрева Земли и скорость остывания, необходимую раскаленной планете, чтобы достичь нынешней температуры. О том, что по мере углубления под землю жар растет, известно было давно. Основываясь на этом наблюдении и на собственных экспериментах по измерению скорости остывания раскаленного докрасна металлического шара, Леклерк определил возраст Земли как 75 000 лет. Поднявшееся возмущение заставило его отказаться от своих выводов, однако сам он втайне продолжал считать, что это минимальная граница возраста и на самом деле Земля еще старше. И хотя планета у Леклерка действительно получилась слишком молодой по сегодняшним представлениям, надо отдать ему должное: он первым опирался в расчетах на научные наблюдения, а не на «исторические» документы.
В 1788 г. Джеймс Хаттон в статье, предшествующей его большому труду «Теория Земли», впервые высказал предположение: «Таким образом, результат наших сегодняшних исследований состоит в том, что мы не видим ни следов начала, ни перспективы конца». У Хаттона, придерживавшегося униформистских взглядов, не укладывались в сознании огромный масштаб времени перехода Земли к ее теперешнему состоянию.
Однако к середине XIX в. Чарльзу Дарвину уже понадобилось аргументировать представляющийся ему разумным срок, позволивший жизни на Земле развиться до нынешнего разнообразия. В те времена сложно было понять, какой срок считать «разумным». В первом издании «Происхождения видов» 1859 г. Дарвин ввязался в тяжелый бой, руководствуясь в подсчетах скоростью эрозии в Южной Англии. Исходя из того, что холмистые гряды Норт-Даунс и Саут-Даунс когда-то образовывали единый меловой купол, Дарвин заключил, что на достижение ими нынешнего облика должно было уйти 306 662 400 или «порядка 300 млн» лет.
Уже через месяц после выхода в свет первого издания начались нападки. Критики утверждали, что предполагаемая Дарвином скорость эрозии могла в прошлом существенно отличаться. До самого конца жизни Дарвин ломал голову над тем, сколько лет должно было уйти на эволюцию, и над противоречащими друг другу версиями возраста Земли. К третьему изданию «Происхождения видов» он уже перестал ссылаться в тексте на эрозию мелового купола Южной Англии, заменив свои выкладки общими рассуждениями о гигантских сроках, требующихся для эволюции.
Читать дальше