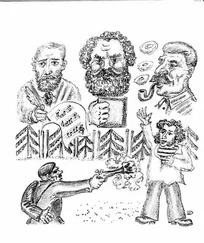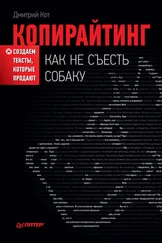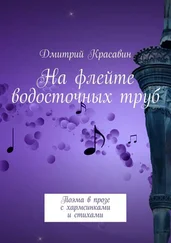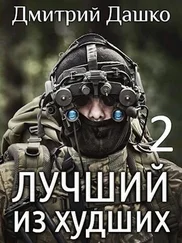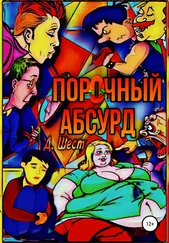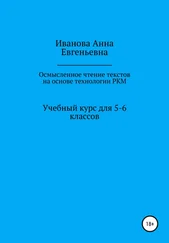Характерно, что неспособность поэта преодолеть родовую стихию проявляется в том, что он вынужден отказаться от своего амбициозного проекта: так возникает проза, удовлетворяющаяся фиксированием каждодневной действительности. Но и над этими текстами писатель не способен осуществлять полный контроль, что проявляется в невозможности закончить текст, который становится аморфным, нескончаемым. Безличность такого текста убивает личность автора. Именно поэтому для второго, прозаического периода творчества Хармса особое значение приобретает именно агрессивная природа оральности, ее направленность на поглощение объекта. Если нормальный половой акт представляется Хармсу неким поглощением, поеданием [424]женщиной мужской индивидуальности, следствием чего является разрушение структуры сознания и растворение в родовой стихии, то направленность этого поглощения будет прямо противоположной при вышеуказанной перверсии (в том ее варианте, когда активную роль играет мужчина): теперь уже мужчина поглощает женщину, а не наоборот. Каннибалистское поедание женщины превращается в символический акт не только поедания мира как такового, но и текста, который, не в силах преодолеть притяжение материального, является его отражением. Попытки оборвать текст, остановить его поступательное движение, свойственные прозаическому творчеству Хармса, выступают как реализация этой агрессивности, направленной на достижение добытийственной пустоты. Так притяжение абсолютного ничто вытесняет то настойчивое стремление преобразить мир, основой которого была сублимация сексуальной энергии в энергию творческую.
Нужно отметить, что уничтожение референциального мира, к которому стремится авангард, не означает уничтожения текста; напротив, текст приобретает значение единственно существующей объективной реальности. Даже минимализация текста, характерная для авангардной поэзии, означает лишь приближение к нулю, но не сам ноль, поскольку произведение, состоит ли оно из точки или из чистого листа с одним названием (такова «Поэма конца» Василиска Гнедова), воспринимается как артефакт; отсутствие самого поэтического текста выступает здесь, если воспользоваться выражением Ю. Орлицкого [425], как тип текста.
С. Бирюков связывает появление минималистской техники с выделением мельчайшей языковой единицы — фонемы; «Дыр бул щыл» Крученых исследователь считает одним из первых минималистских произведений [426]. С этим, однако, трудно согласиться: как раз распадение слов на морфемы и фонемы ведет к потенциальной максимализации текста; в сущности, стихотворение Крученых можно продолжать сколько угодно, оно потенциально бесконечно. Предлагая в другом месте называть лилию «эуы», Крученых демонстрирует, что не интересуется лилией как таковой, его интересует даже не слово, не смысл его, а то, как можно разложить его звуковую форму. На деле, разрывая связь между лилией-предметом и лилией-словом во имя нового мироощущения, Крученых, следуя своему тезису о том, что «новая словесная форма создает новое содержание», волей-неволей пытается трансформировать сам предмет, поскольку новое содержание не может не повлиять и на его внешний облик. Старый предмет, в результате подобной радикальной деформации, исчезает полностью, но не возникает и новый предмет, поскольку абсолютно новая звуковая форма слова (эуы) не имеет соответствующего денотата в мире объектов. Заявление, что беспредметность есть вполне «реальная образность с натуры» [427], остается, таким образом, лишь благим пожеланием; на самом же деле словесная стихия становится единственной реальностью, замещающей собой реальность объективного мира. При этом слова, теряя свои конкретные очертания, превращаются в однородную массу, текучую и аморфную. Поэзия А. Туфанова, выдвигая принцип «текучести» в качестве основы поэтического творчества, лишь доводит до логического завершения то, что было реальностью уже первых заумных текстов.
Поэт-заумник оказывается заложником своего собственного стремления поглотить референциальный мир и заменить его миром, созданным им самим, над которым он имел бы полный контроль: уничтожая предмет и радикально деформируя слово, которое ему соответствует, он попадает в зависимость от своего же собственного заумного текста, ибо его потенциальная бесконечность ставит под сомнение саму возможность прекратить его.
В «Лапе» дан пример того, как нормальная речь превращается в заумную; в ответ на вполне разумную реплику Николая Ивановича о том, что для приготовления супа нужно положить в воду мясо или рыбу, покойник говорит:
Читать дальше