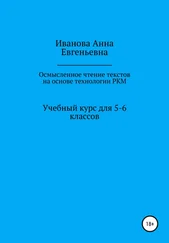(Псс—2, 299)
На этом этапе поэт теряет свою идентичность, увлекаемый потоком несущихся в пространстве предметов и слов. Он, как сказал бы Беккет, лишь точка в бесконечном кипении линий. Родовая, материнская первостихия одерживает верх над властью отца и закона. Однако Хармс далек от того, чтобы полностью отдаться «оргийному самозабвению» творчества, и приступает к следующему этапу очищения мира и слова, беря инициативу в свои руки.
Таким образом, мы завлекаемся в рабочее состояние. <���…> В драке не оправдываются и не извиняются. Теперь каждый отвечает за самого себя. Он один своей собственной волей приводит себя в движение и проходит сквозь других. Все существующее вне нас перестало быть в нас самих. Мы уже не подобны окружающему нас миру. Мир летит к нам в рот в виде отдельных кусочков: камня, смолы, стекла, железа, дерева и т. д. Подходя к столу, мы говорим: Это стол, а не я, а потому вот тебе! — и трах по столу кулаком, а стол пополам, а мы по половинам, а половины в порошок, а мы по порошку, а порошок к нам в рот, а мы говорим: это пыль, а не я, — и трах по пыли. А пыль уже наших ударов не боится.
(Псс—2, 300)
Хармс в прямом смысле слова пожирает мир, «овнутривает» и переваривает его. На смену пассивному вслушиванию приходит активное овладение миром, вплоть до его полного упразднения. Хармс действует как радикальный авангардист, «оральная агрессивность» которого побуждает его, по замечанию И. П. Смирнова,
видеть в речевой деятельности средство, с помощью которого мог бы быть побежден и упразднен мир референтов (хлебниковское «слово как таковое»); фактический универсум потерял в поэзии футуризма (Константин Олимпов, Шершеневич и многие другие) свое отличие от языкового универсума [418].
При этом деструктивность авангарда подчас находила свое выражение в откровенном насилии, направленном часто, особенно у Крученых, на чужой текст, которому приписывалось совершенно не свойственное ему сексуальное содержание: Смирнов говорит в этой связи о настоящем, в почти уголовном смысле слова, изнасиловании претекста [419]. В сущности, вся «сдвигология» Крученых есть не что иное, как система агрессивного овладения не только чужим текстом, но и соотнесенным с ним предметным миром, причем конечной целью этого овладения было, без сомнения, разрушение чужого текста и чужого мира.
По Смирнову, оральная агрессивность авангарда является одним из проявлений распада симбиотического союза матери и ребенка.
Агрессивность ребенка, сопровождающая оральную стадию его психического становления, объясняется тем, — пишет исследователь, — что деструктивные действия (кусание материнской груди и т. п.) выступают для него адекватными его представлению о разрушившемся объекте. <���…> Возвращение субъектом себе объекта, ставшего непригодным, означает причинение ему страдания, боли — активное участие субъекта в процессе деформации внешнего мира [420].
К тому же восстановление ослабевшей связи проявляется как желание «поглотить, интроецировать объект и тем самым гарантировать себе в дальнейшем — надежнейшим из всех способов — неотчуждаемость от объекта» [421].
В этой перспективе небезынтересно представление чинарей о том, что «поедание и половое соединение — два следствия одного и того же принципа» ( Чинари—1, 244). Сущность этого принципа — в разрушении структуры. Недоверием и страхом, внушаемым полноценным половым актом, который напоминает пожирание мужчины женщиной, можно объяснить и некоторые особенности хармсовской сексуальной жизни, в особенности то место, которое занимает в ней оральная эротика. Суть ее заключается именно в ее неполноценности, в ее недоведенности до конца, она как бы является суррогатом нормального совокупления. С другой стороны, возможно и несколько иное объяснение, основывающееся на исследованиях Фрейдом детской сексуальности, самый первый этап которой, относящийся к прегенитальной сексуальной организации, находит свое выражение в преобладании оральности. Принимая во внимание тезис Фрейда об инфантильном характере перверсий, данную особенность половой жизни Хармса можно было бы истолковать как бессознательное желание вновь вернуться в состояние покоя и защищенности, которое предшествует расщеплению сознания на «я» и «не-я» [422]. Однако нельзя забывать и о том, что согласно хармсовским представлениям о сущности поэтического творчества, погружение в бессознательное должно привести не к растворению в нем, а к расширению сознательного эго, за счет элементов бессознательного, до сверхсознательной самости; на онтологическом уровне данному процессу соответствует воссоздание конкретного и реального мира, в котором муже-женская энергия выступает как нерасчленимая целостность [423].
Читать дальше