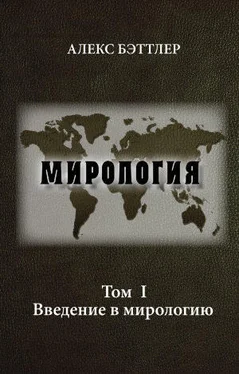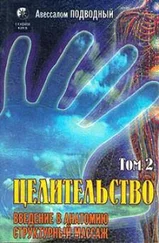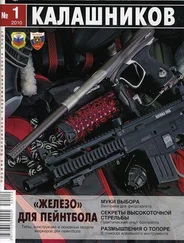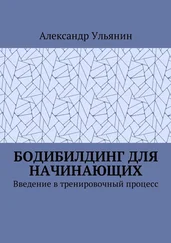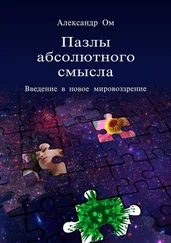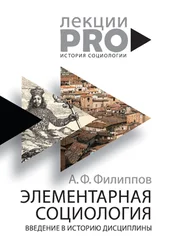В какой-то степени я также следовал этому правилу, формулируя законы полюса ( мощи ) и центров силы , не зная, что такое сила по существу [112]. При этом возникает очень серьезная опасность: действительно ли мы измеряем силу? А вдруг нечто другое? На интуитивном уровне все чувствуют, что сила – нечто фундаментальное. Но что?
Политологи и международники давали множество определений, и в соответствующем месте они будут изложены. Но они сразу же напоминали мне удачное высказывание Ю.М. Батурина: «В науке иногда не очень ясно говорят о том, что не очень ясно себе представляют. Значительно опаснее, однако, когда ясно говорят о том, что неясно представляют» [113].
Ясность же можно внести только установлением иерархии языковых знаков и их значений, переводя их на научный язык, который оперирует понятиями и категориями. Известно, какое значение проблемам научного языка придавали философы, например Кондильяк и Лейбниц. Даже простое уточнение лексикона на уровне терминов нередко проясняет суть проблем.
Напомню, что Гегель не случайно обрушивался на математиков, претендовавших на истинность доказательств в физике, за то, что математика в принципе не в состоянии вскрыть «качественную природу моментов». Причина проста: математика – «не философия, не исходит из понятия , и поэтому качественное, поскольку оно не почерпается с помощью лемм из опыта, находится вне ее сферы» [114]. Иначе говоря, качество природы, ее суть может быть вскрыта только через понятия, через определения этих понятий, которые «суть законы».
Если согласиться с тем, что без понятий и категорий невозможно научно познавать сущности и явления, сразу возникает проблема различия понятий и категорий. Нередко даже у великих философов встречаются эти слова как синонимы. Например, у Ленина дается трактовка материи как категории и тут же говорится о ней как о понятии.
Здесь мы сталкиваемся с проблемой нерасчлененного единства категории и понятия. Как пишет М. Булатов, «оно имеет место в текстах, в которых одновременно понимаются отношения категории к вещам, расчлененным на рубрики, и их собственное внутреннее содержание» [115].
Поэтому с самого начала надо определить, что такое понятие и что такое категория . Между прочим, сам этот предмет является одной из философских проблем, по-разному решаемой различными философами и философскими течениями.
Конечно, наиболее интересные и глубокие определения этим терминам давал Гегель. В своей теории познания он четко различал объективную логику (это наука о понятии самом по себе, о категориях) и субъективную логику, которая есть наука о понятии как понятии о чем-то. «Понятие – это всеобщее, которое вместе с тем определено и остается в своем определении тем же самым целым и тем же самым всеобщим, т. е. такая определенность, в которой различные определения вещи содержатся как единство» [116]. Естественно, диалектика Гегеля ведет его к признанию внутренней противоречивости понятия, поскольку
…вообще всякое понятие есть единство противоположных моментов , которым можно было бы, следовательно, придать форму антиномических утверждений [117].
В той же работе Гегель дает определение термину категория . Он пишет:
Категория, согласно этимологии этого слова и согласно дефиниции, данной Аристотелем, есть то, что говорится, утверждается о сущем (там же, с. 369).
Существуют, как уже оговаривалось, другие воззрения на понятия и категории, которые достойны анализа в специальной работе. Я же хочу ограничиться изложением своего понимания данных терминов, которое сводится к следующему. Категория определяет наиболее общие свойства бытия или реальности, например, материи, времени и пространства. Понятия – это моменты категорий, или форма мысли, отражающая ту или иную сторону категориального бытия.
В упрощенном виде категориями оперируют при анализе «вещи в себе», понятиями – «вещи вовне», т. е. в понятии предполагается п о н я т ь, познать сущность через ее проявления.
М. Булатов в указанной работе различия эти объясняет таким образом:
Двойственность категорий возникает в зависимости от того, какой момент их принимается во внимание – бытие «или» мышление. В понятии же, в самом его названии выражено субъективное – «понимание» предмета, а не сам предмет (с. 193).
При этом надо иметь в виду, что слово категория употребляется также и в смысле систематизации, рубрикации, членения той или иной группы объектов. В таком значении дается этот термин, например, в Оксфордском философском словаре: « Категории . Наиболее фундаментальные разделения некоторых субъектов-материй» [118]. Именно в таком ключе и понимается термин категория большинством философов. К примеру, авторы специальной науковедческой работы «Знания, понятия и категории» почти буквально повторяют словарное определение термина категория , под которым они понимают только «категоризацию» [119]. Удивительно, но даже Исайя Берлин в специальной работе о понятиях и категориях ограничивает значение последнего термина свойствами «описания». Он пишет: «Анализировать понятие человека значит осознать те категории, которые его описывают» [120]. То есть первое нечто абстрактное, второе предназначается для ранжирования в данном случае неких качеств, составляющих суть человека. Подобная интерпретация подтверждается последующим его умозаключением: «Базовые категории (и соответствующие понятия [concepts]), отраженные в терминах, которые мы употребляем по отношению к людям, таких как общество, свобода, чувство времени и изменения, страдание, счастье, производительность, добро и зло, правильное и неправильное, выбор, усилие, истина, иллюзия (их все можно взять произвольно), не являются индукцией и гипотезами» (р. 166).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу