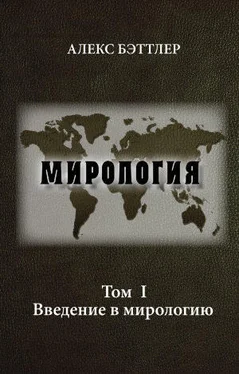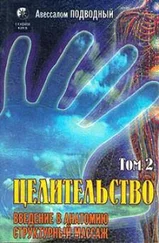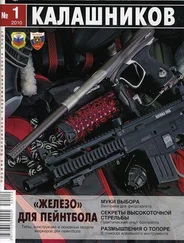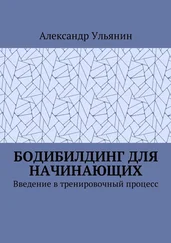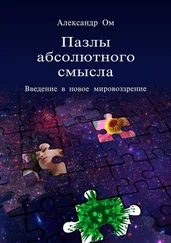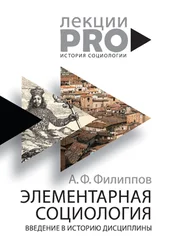Итак, существует проблема: нет общепринятого понятийно-категориального лексикона ТМО, как, например, в экономике или политэкономии. Вне зависимости от политических или идеологических пристрастий ученые-экономисты понимают одно и то же под понятиями стоимость, цена, потребительная стоимость, спрос, предложение и т. д. При этом надо помнить, что и в политэкономии в свое время было, по словам Маркса, «смешение категорий», пока благодаря работам того же Маркса и последующих экономистов не утвердились устойчивые понятия и категории. Это освобождает их от всяческих споров относительно тех или иных терминов, позволяя концентрироваться главным образом на новых явлениях в экономической жизни или на углублении старых с привлечением более усовершенствованных научных методов. В ТМО же, скажем, одно из ключевых слов при анализе международных отношений – сила имеет такое же количество смыслов, сколько интерпретаторов.
Несмотря на это, как ни странно, немало международников стараются избегать четких понятий и категорий. Бросается в глаза и то, что, даже употребляя слово понятие , они искажают его смысл, а скорее всего, и не понимают его значения. Возможно, это неслучайно, поскольку в англоязычных философских словарях нет даже упоминания слова notion как понятия в гегелевском смысле. А современные русские философские словари вообще убрали термин понятие , который, дескать, перестал быть актуальным. Правда, для большинства российских теоретиков он никогда и не был актуальным.
Следует учесть, что если для некоторых ученых понятия это просто fagon de parler , то другие отказываются от понятий и категорий, теоретически обосновывая это следующим соображением. Они полагают, что дать определение какому-нибудь явлению, т. е. дать его понятие, означает жестко зафиксировать одно мнение, но это ведь диктатура, а они, будучи демократами, являются сторонниками плюрализма, что предполагает множество мнений об одном и том же явлении. Здесь – очевидное смешение явлений общественной жизни и науки.
Такой подход привел к тому, что многие современные исследователи, в отличие от философов XIX и XX веков, разучились определять явления и придавать им понятийный смысл, операбельный для науки. К примеру, один из авторитетных теоретиков, рассматривая слово power как понятие, сохраняет в нем три значения: власть, сила, государство . При этом такие теоретики даже не подозревают, что существует разница между понятиями в интерпретации Канта и Гегеля. В первом случае оно обозначается как concept – уровень формальной логики, во втором как notion – диалектика. Правда, это общая проблема западного обществоведения.
В свое время К. Маркс писал:
Все твердые предпосылки сами становятся текучими в ходе дальнейшего анализа. Но лишь благодаря тому, что они твердо устанавливаются в самом начале, возможен дальнейший анализ без перепутывания всего [108].
Тем не менее до сих пор печать «перепутывания всего» – особая примета в работах по внешней политике и международным отношениям, поскольку отсутствует единый понятийный аппарат. Обнаружились различные подходы, толкования тех или иных категорий, в том числе таких ключевых, как престиж, сила и мощь государства, внешняя политика и международные отношения. Возможно, это и естественно в ходе первоначального накопления знаний в указанных областях.
Отсюда следует вывод: ТМО как область знаний только тогда станет наукой, когда будет сформулирован стройный понятийно-категориальный аппарат, отражающий каждое значимое звено объективной реальности в системе мировых отношений. Именно такая попытка предпринята в данной работе.
Я напомню, что Гегель в своей диалектике понятиям и категориям придавал первостепенное значение. Он писал:
Лишь в своем понятии нечто обладает действительностью; поскольку же оно отлично от своего понятия, оно перестает быть действительным и есть нечто ничтожное; осязаемость и чувственное вовне-себя-бытие принадлежат этой ничтожной стороне [109].
Другими словами – бытийной стороне жизни, но не научной. Следовательно, явления, которые стоят за вышеприведенными словами, пока непонятны, малоизучены, непредсказуемы.
Парадокс состоит в том, что, несмотря на это, именно это размытое «нечто» положено в основу множества научных теорий и даже законов. Оказывается, возможно и такое [110]. Об этом с некоторым раздражением писал Ньютон в своих «Началах»: дескать, я не в состоянии открыть феномен гравитации, поскольку гипотез не измышляю; я занимаюсь экспериментальной философией. Лаконично эту идею сформулировал физик Анри Пуанкаре: «Не важно знать, что такое сила, а важно знать, как ее измерить» [111]. Если так, то возникает вопрос: а что же измеряется?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу