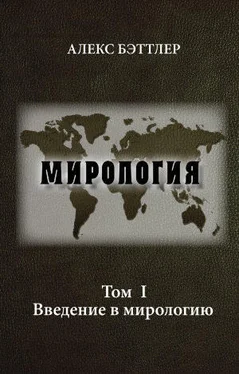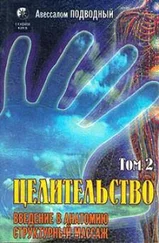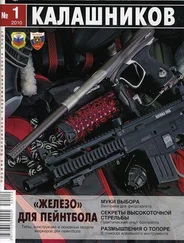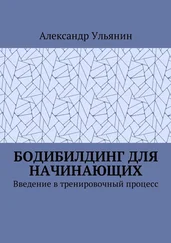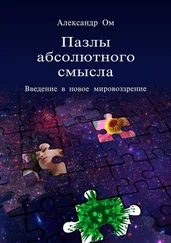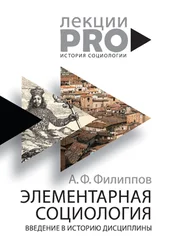А теперь есть смысл точнее определить такие ключевые термины, как наука, методология и методы, а также определить, что такое понятия и категории . Но для начала я хочу изложить науковедческие идеи очень странного марксиста, который одновременно умудрялся быть позитивистом. Конечно же, речь идет об А.А. Богданове.
2. А.А. Богданов – марксистский позитивист
Среди русских ученых, которые внесли значительный вклад в науковедение, нельзя не назвать двух выдающихся энциклопедистов: В.И. Вернадского и А.А. Богданова. Хотя деятельность Вернадского в большей степени связана с естественными науками (геохимия, минералогия, биология, палеонтология), однако он умудрялся охватить и такие области, как история и философия науки и социология. Известен он также своим вкладом в создание теории ноосферы [86]. В своих лекциях «Очерки по истории научного мировоззрения» и в ряде других статей о науке он предлагает критерии отличия науки от ненауки, в основу которых он клал научный метод [87].
Здесь же я хотел бы подробнее остановиться на А.А. Богданове, в силу некоторых исторических причин несправедливо оказавшемся в тени в СССР. Это тот самый Богданов, о котором писал В.И. Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» в связи с критикой позитивизма в его другом обличье – в виде махизма и моноэмпиризма. Богданов – уникальный энциклопедист, знания которого распространялись на весьма широкий круг наук: от философии до медицины. В этом плане он, возможно, не уступал Энгельсу, что подтверждается даже одной его работой – «Тектология: (Всеобщая организационная наука)». К ней я и хочу обратиться для иллюстрации некоторых его идей, которые можно будет плодотворно использовать в ТМО.
Между прочим, читая Лакатоса, я почему-то все время вспоминал именно труд Богданова, поскольку многие идеи венгерско-английского ученого весьма тесно перекликались с идеями «Тектологии», особенно рассуждения Лакатоса об «эмпирическом базисе». Напомню суждение Лакатоса: «… теория является „научной“ ( или „приемлемой“ ) , если она имеет „эмпирический базис“. В этом критерии четко видна разница между догматическим и методологическим фальсификационизмом» [88]. На том, что именно понятие эмпиризм отличает науку от не науки, постоянно настаивал и Богданов за несколько десятков лет до Лакатоса. Здесь нас прежде всего интересует, каким образом и из каких элементов собирался Богданов создавать науку и почему у него это в конечном счете не получилось.
Сразу же есть смысл обратить внимание на следующее: хотя Богданову не удалось создать науку «тектологию», многие положения, мысли и суждения, связанные с созданием данной науки, имеют значительно большее значение для теории мировых отношений, чем науковедческие идеи Куна и Лакатоса. Опять же интересно, что хотя Богданов числил себя марксистом и некоторое время даже большевиком, однако весь его научный лексикон, как ни странно, больше напоминает лексикон позитивистов, поскольку в своих философских взглядах он так и остался на позиции махизма – одном из вариантов позитивизма. В некоторой степени это отражено и в его негативном отношении к Гегелю, взгляды которого, по его мнению, «в XX в. представляют лишь бесполезную тарабарщину» [89]. Любопытно, что, несмотря на такую оценку, он тем не менее, скорее всего, именно у Гегеля извлекает ряд положений, касающихся системного подхода, на основе которого и выстраивает свою науку. В международных же отношениях системный подход становится модным и популярным только где-то с конца 1970-х годов.
Однако прежде всего Богданов фактически в духе позитивистов должен был определиться во взаимоотношениях между наукой и философией. Эта тема до сих пор в ходу у философов науки. Более точно вопрос ставится таким образом: можно ли философию называть наукой? Опять же, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что такое наука и что такое философия. И если большая часть буржуазных ученых, как мы видели выше, до сих пор дискутирует на эту тему, то марксист А. Богданов говорит об этом четко и однозначно в статье «Наука и рассуждательство»:
То, что установлено экспериментом, установлено научно и является научным фактом , потому что позволяет при реализации тех же условий точно предвидеть результат; а нет высшего критерия научности, чем точное предвидение на практике. И потому эксперимент всегда научен, «философским» он быть не может по самому определению: что установлено научно, то уже не философия. Иначе слово «философия» теряет всякий определенный смысл и становится источником неограниченной путаницы (кн.2, с.286).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу