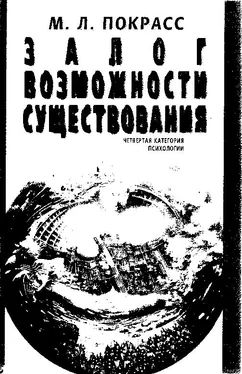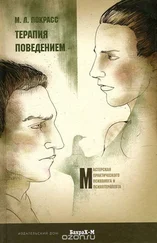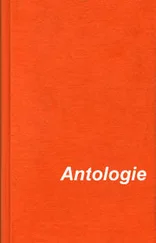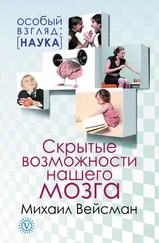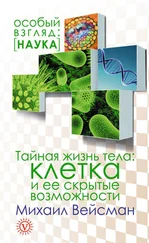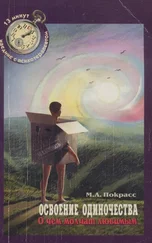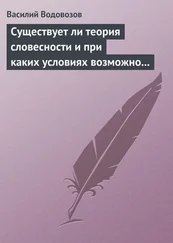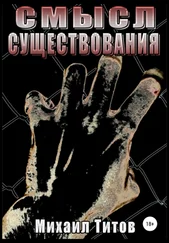Тогда и рождается осознанно немотивируемый подъем или необъяснимая тревога.
Но ведь не подлежит сомнению факт, что эмоциональный подъем способствует саногенным процессам, а эмоциональный спад, непонятая, нереализуемая продуктивной деятельностью, подавляемая тревога могут не только способствовать развитию уже существующей болезни и ее закреплению, но и сами по себе могут становиться болезнью или вызывать и формировать ее.
Нельзя врачу способствовать снижению жизненных, субъективно значимых перспектив пациента. Этим он делает последнего объективно более больным, даже когда такой ценой временно облегчает его страдание.
Врачу необходимо непременно заботиться о расширении перспектив пациента уже в процессе лечения.
Приспосабливая пациента к сложным условиям, повышая его продуктивность уже во время лечения, врач тем самым положительно воздействует непосредственно на его эмоциональность, то есть объективно способствует выздоровлению.
ПРИНЦИП: лечить с непременным учетом неосознанного эмоционального прогнозирования пациентом характера перспектив реализации значимых возможностей. Расширяя положительные перспективы, через увеличение продуктивности пациента, положительно воздействовать на его эмоциональный тонус,
Вернемся к нашим примерам.
ПРИМЕР № 2 (продолжение).Женщина, вылечиваясь несмотря на то, что муж продолжает пить, становится все более независимой от поведения мужа. Это прогнозирует расширение ее жизненных возможностей не только после прекращения им пьянства, но и при его продолжении.
Когда она, выздоровев, сумела помочь ему перестать пить, то этим не только продуктивно улучшила свои условия, но и освоила новый, доступный ей способ воздействия на мужа, на свои условия. Сама создала для себя лучшие перспективы. Пьянство мужа перестало быть угрозой, от которой она не властна защититься, то есть снизило свою значимость.
Если бы мужа попытались увещевать, то даже в случае, когда эти увещевания бы помогли, а потом женщина даже бы вылечилась, то пьянство все равно домокловым неотвратимым мечом висело бы над ней, сковывающе влияя на ее эмоциональность.
Одна из моих пациенток, с чуть заметной претензией на утонченность, преподавательница французского, через пол года после лечения истерических страхов “за сердце”, на очередном профилактическом приеме, после двух лет хорошего самочувствия, спросила у меня:
- Скажите, доктор, а у меня есть гарантия, что мои приступы впредь никогда не повторятся?
- Если Вы здоровьем ребенка поклянетесь, что при их возникновении, никто, кроме врача о них не узнает.
- Как же, а муж?!..
- Именно муж не должен о них узнать в первую очередь!
- Ну что Вы, доктор! Он тогда запьет!
Эта тридцатидевятилетняя женщина заболела более четырех лет назад, когда после одной из пьянок мужа у нее стало “плохо с сердцем”.
Муж, испугавшись за нее, бросил пить. Она же по-прежнему оставалась эгоцентричной, печальной, красивой домашней вещью, снисходительно позволяющей себя любить. Он только просил ее родить ребенка. У нее родился сын. Болела она около двух лет. Муж с тех пор никогда не возвращался к пьянству. Она же до сих пор боится его возобновления, потому что иных средств воспрепятствовать пьянству, кроме болезни, не имеет в своем опыте.
И у этой женщины в самом деле нет гарантий, что ее приступы не повторятся, и никогда не будет! Более того, хотя она и теперь, еще через два года, практически здорова, я думаю, что у нее есть гарантия заболеть вновь непременно, если не истерическим неврозом, то психосоматическим заболеванием, так как ее опыт вызывает эмоциональное прогнозирование пьянства мужа в будущем. Проще говоря, она живет в нереализуемом продуктивной деятельностью страхе. А такой страх имеет совершенно определенные эндокринные, вегетативно-соматические и поведенческие проявления, которые так или иначе дадут себя знать.
Теперь, я думаю, сущность излагаемого подхода, приобрела некоторую конкретность и стала яснее. Повторю, в чем она заключается.
Суть подхода в создании условий, максимально побуждающих пациента к продуктивной приспособительной деятельности, исключающей возможность сохранения болезни и лишающей болезнь ее приспособительного смысла.
Суть подхода в создании условий, усложняющих существование при сохранении болезни и облегчающих его без нее.
Суть подхода в создании таких условий, которые превращают болезнь из способа приспособления в помеху приспособлению, в явление неудобное, невыгодное не только с точки зрения физического и психического комфорта, но с точки зрения необходимости удовлетворения наиболее значимых социогенных потребностей пациента (сохранения самооценки на высоком уровне, улучшения моральных и физических условий жизни, сохранения положительных, в соответствии с индивидуальной ориентированностью, перспектив).
Читать дальше