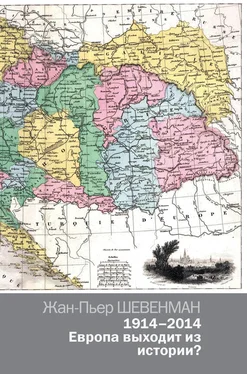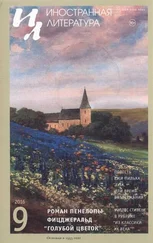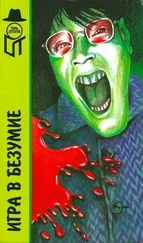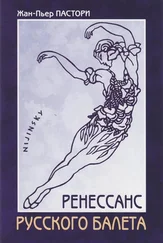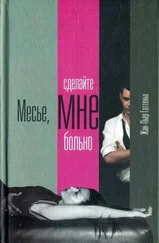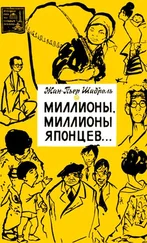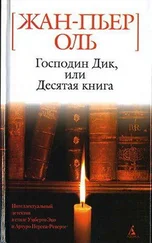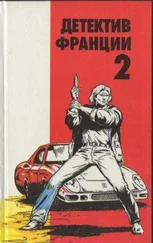Анализ немецкой внешнеторговой статистики за 1913 г. показывает, что на Британскую империю и США приходилось 25 % немецкого экспорта и 34 % импорта. Центральноевропейская таможенная зона, которая, протянувшись на запад, включила бы Францию, Бельгию и Италию, смогла бы претендовать лишь на 30 с небольшим процентов экспорта и только на 20 % немецкого импорта. Даже если представить, что снижение таможенных пошлин коснулось бы и России (8,7 и 13,2 % соответственно), попытка повернуть интересы Германии с Запада ( Westorientierung ) на Восток ( Ostorientierung ) все равно кажется не слишком реальной, поскольку Германия 1913 г. была уже слишком глубоко вовлечена в процессы глобализации.
Суту, без сомнения, прав, что флагманы немецкой экономики той поры понимали: экономика Рейха слишком интегрирована в мировую, чтобы из нее можно было выйти без тяжелых последствий [83]. Правильным решением было бы, сохранив коммерческие потоки, существовавшие до 1914 г., усилить их таможенным союзом, который бы ограничился одной Австро-Венгрией.
Проект экономического блока ( Wirtschaftsblock ), описанный историком Фрицем Фишером, само собой, был взлелеян не немецкими экономическими властями, а кругами пангерманистов. Это стало ясно в августе 1916 г., когда Гинденбург и Людендорф сменили Фалькенхайна во главе Генерального штаба. Помимо отставки Бетмана-Гольвега с поста канцлера, безжалостная подводная война на Западе, которая заставила США вступить в конфликт, и прорыв русского фронта на Востоке год спустя продемонстрировали все последствия этого назначения.
После заключения в марте 1918 г. Брест-Литовского мира переустройство всей Восточной Европы стало реальностью. Рейху оставалось лишь собрать последние силы, чтобы победить в последнем и важнейшем наступлении на Запад (март – август 1918 г.).
Если бы «Натиск мира» ( Friedensturm ) оказался удачным, кто знает, как бы выглядел заключенный мир? При таком сценарии Германия в отличие от 1940 г. действовала бы уже как победительница России. Вмешательство США последовало бы уже слишком поздно. По соглашению между Германией и англосаксонскими странами СССР, без сомнения, никогда бы не появился на свет, и Европа оказалась бы под пятой Германии.
* * *
После того как 9 сентября 1914 г. немецкие «военные цели» были озвучены, министр иностранных дел фон Ягов подвел под них теорию, провозгласив, что германцам предстоит свести счеты со славянами. Этот замысел постепенно конкретизировался, когда в конце 1916 г. было создано вассальное Польское государство, затем после двух русских революций подписано соглашение о независимости Украины (9 февраля 1918 г.), а потом два чрезвычайно жестких договора с большевистской Россией: Брест-Литовский мир, заключенный весной 1918 г., и второй договор (20 августа 1918 г.), во многом ужесточавший первый, но предусматривавший возможность для будущего сотрудничества. Людендорф включил контроль над бакинской нефтью в число «военных целей» Германии на Восточном фронте. Однако они становились все более и более призрачными по мере того, как на Западе немецкие армии были вынуждены отступать и впереди замаячило перемирие.
* * *
Тезисы Фрица Фишера подверглись ожесточенной критике со стороны немецких историков. Они попытались умалить значение плана от 9 сентября 1914 г. Его цель будто бы состояла лишь в том, чтобы показать Англии, что ее ждет новая «континентальная блокада» и что в конце концов она ничего от войны не получит. Подобная интерпретация, без сомнения, соответствует тому, на что в глубине души рассчитывали экономические власти Рейха. Но есть одна значимая поправка: рычаги управления страной находились уже не в их руках. Во время войны Германия жила под полудиктаторским правлением Генерального штаба. А земельная и военная аристократия, которая во Втором Рейхе всегда играла важнейшую роль, не только поддерживала «военные цели», сформулированные Бетманом-Гольвегом, но активно выступала за обширные территориальные приобретения, за которые ратовали пангерманисты.
В своей книге Суту подвергает сомнению значение тех «военных целей», которые в сентябре 1914 г. были изложены Бетманом-Гольвегом. Не различая за ними пангерманистских замыслов, он подчеркивает их тактический характер. Суту отстаивает справедливый тезис о том, что крупная немецкая индустрия была больше заинтересована в мировом рынке и «ориентации на Запад», чем в создании экономического блока в Центральной Европе. Даже мир, заключенный с Россией в 1918 г., и перспективы экономического сотрудничества, которые он обещал, воспринимались экономической элитой лишь как дополнительные гарантии перед лицом западных держав. Она больше всего опасалась того, как бы западные союзники не попытались отрезать Германию от доступа к необходимым ей природным ресурсам и от выхода на мировой рынок. Экономическое руководство Рейха больше всего рассчитывало на конкурентоспособность немецкой экономики и ожидало ее восстановления во второй половине 1920-х гг. (1924–1929). Так что сам ход войны, без сомнения, вносил коррективы в формулировки ее «целей».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу