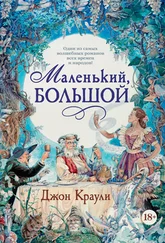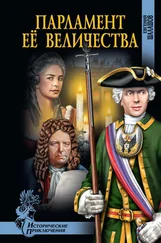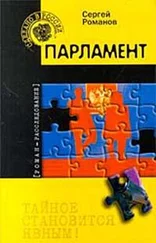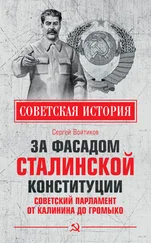Следует подчеркнуть, что далеко не все относились к деятельности ученых положительно. С резкой критикой научного сообщества выступал Гоббс, который, например, вполне резонно указывал на то, что постановка экспериментов Бойля опирается на неявную гипотезу об упругости воздуха, в самом эксперименте никак не доказываемую. [6] В своих экспериментах Бойль помещал трубку Торричелли под стеклянный колпак, из-под которого откачивал воздух. В результате уровень ртути в трубке понижался, из чего Бойль делал вывод, что столб ртути уравновешивается давлением атмосферы. Однако воздух под колпаком был изолирован от атмосферного. Следовательно, столб ртути уравновешивается не атмосферным давлением, а чем-то иным: упругостью воздуха, сжатого до начала эксперимента собственным весом.
Тем самым логическая целостность эксперимента нарушается; для доказательства упругости воздуха нужны новые опыты, которые тоже содержат какие-то неявные допущения, и т. д. (об этом см. [2, с. 42 — 44]).
Впрочем, куда более резкой критике Гоббс подверг не отдельные опыты и их интерпретацию, а исходную установку сообщества — веру в возможность постижения универсальных законов природы посредством систематических экспериментальных исследований. [7] При изложении позиции Гоббса в его полемике с учеными я опираюсь на материалы и выводы чрезвычайно содержательной монографии С. Шапина и С. Шеффера [2], посвященной анализу проблем обоснования в XVII в. возможности экспериментального естествознания.
В принципе, Гоббс не исключал полезности и даже истинности отдельных экспериментов, однако, считая себя последователем Декарта (т. е. сторонником полной математизации физики), полагал, что познание универсальных законов природы должно основываться на универсальных же законах математики и логики, восходя затем от них к конкретным явлениям. Между тем в лаборатории, считал Гоббс, мы видим демонстрацию каких-то явлений, а затем их интерпретацию, достигнутую на основе соглашения группы людей и претендующую на выявление истины. Но разве не так же поступают всевозможные сектанты, которые затем становятся источником смут? (см. [там же, с. 115 — 117, 125 — 129]).
Отвечая на эти и подобные им обвинения, члены общества объясняли, что их соглашения не имеют ничего общего ни со сговором сектантов, ни с единодушием толпы фанатиков. Мало того, в отличие от тайных искусств алхимиков и магов их знание носит принципиально публичный характер, в чем они предлагают убедиться всем желающим. Далее ученые поясняли, что, достигая соглашения, они пользуются, например, хорошо известными принципами судопроизводства: один свидетель — не свидетель; выслушиваться должны все свидетельства; в случае сомнений расследования необходимо продолжить; члены сообщеста, как и судьи, дожны быть людьми с незапятнанной репутацией; не допускается умолчание о неудачных экспериментах и т. д. Кроме того, общество регулярно публикует отчеты, включающие подробные описания проведенных опытов и использованных инструментов, а также мнения всех участников обсуждения. [8] Вспомним полученное лишь в 1771 г. разрешение публиковать полные отчеты о парламентских дебатах в массовых изданиях.
Эти отчеты содержат только факты, изложенные так, чтобы любой желающий мог повторить описанные опыты. Следовательно, уже в первые годы работы сообщества сформировался один из важнейших принципов экспериментального естествознания — универсальная воспроизводимость любого эксперимента.
Необходимо отметить, что на первый взгляд беспристрастные отчеты сообщества неявно заключали в себе важные метафизические установки. Читая эти отчеты, человек постепенно приучался (как и их авторы) начинать исследования не с философских размышлений о сущности изучаемых субстанций и даже не с гипотез о природе веществ, а с анализа устройства инструментов и способов их применения при исследовании данных явлений. Таким образом, читатель (и исследователь) постоянно имел дело не с гипотетическими сущностями, о которых можно спорить до конца дней, а с конкретными, хорошо известными (например, воздушный насос) или легко представимыми (отчеты содержали множество подробных рисунков) устройствами, превращавшимися в лаборатории в основной источник получения знаний о природе. Правда, сама природа при этом все более понималась как непосредственное продолжение приборов и изучалась лишь в той степени, в какой она могла стать предметом лабораторного эксперимента.
Читать дальше