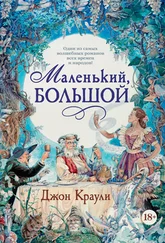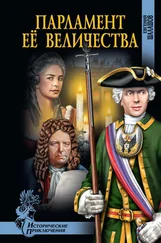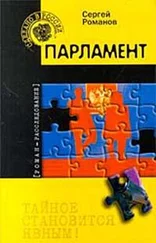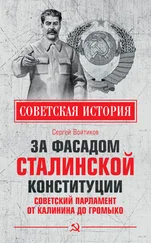Ю Менцин - Парламент
Здесь есть возможность читать онлайн «Ю Менцин - Парламент» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Политика, sci_economy, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Парламент
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Парламент: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Парламент»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Парламент — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Парламент», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Сразу же после "славной революции" многое делалось для устранения всевозможных (от королевских до цеховых) монополистических ограничений, препятствовавших "честной конкуренции", и налаживания финансовой системы, расстроенной в годы войн и смут. Уже в 1696 г. под руководством двух ученых (Дж. Локка и И. Ньютона) и двух государственных деятелей (Ч. Монтегю и Дж. Сомерса) в стране была проведена денежная реформа, в ходе которой все находившиеся в обращении серебряные монеты (многие из них были неполновесными или фальшивыми) казна по решению парламента обменяла населению (по номиналу!) на полноценные деньги. Казне эта реформа обошлась почти в 3 млн. фунтов стерлингов, в то время как ее обычный годовой расход не превышал 2 млн.
Тем не менее авторам реформы удалось убедить правительство в том, что обмен населению денег по их реальной стоимости, т. е. по весу, разорит множество ни в чем не повинных людей и еще сильнее разрушит экономику. Напротив, наладив нормальную торгово-промышленную деятельность, казна сможет компенсировать понесенные убытки. Это предсказание блестяще подтвердилось, и действительно, за счет налога со все возраставшего оборота казна через несколько лет получила намного больше того, что первоначально вложила в реформу (об этом см. [7, c. 288 — 291]). Таким был один из первых итогов "славной революции".
Успехи нового режима были достаточно впечатляющими. И все же зададим странный на первый взгляд вопрос: почему, собственно, "славная революция" оказалась славной не только по отдаленным последствиям, но и по редкой в те времена бескровности? Вдумаемся. В стране при поддержке иностранных войск свергается пусть горячо нелюбимый, но все же законный монарх. Его место занимает человек, строго говоря, не имеющий на престол права (у Якова II был наследник), что вызывает резкие возражения различных ортодоксов. Далее. Верховная законодательная власть переходит к парламенту. Но англичане уже успели достаточно пожить под властью этого учреждения, которое привело страну сперва к диктатуре Кромвеля, затем к анархии и, наконец, к реставрации дома Стюартов.
Почему же теперь английское общество и прежде всего ближайшее окружение Вильгельма Оранского, в которое входил во время эмиграции Локк, оказывают столь безоговорочное доверие парламенту? Почему Локк видит в парламенте с его непрерывной межпартийной борьбой не рассадник смут, а источник консолидации общества? [4] В своем фундаментальном труде "Левиафан" (1651), посвященном анализу различных форм государственной власти, Т. Гоббс рассматривает парламент лишь как сугубо вспомогательный институт власти, способный при отсутствии верховного контроля над ним легко становиться источником анархии и войн (см. [8, c. 144 — 145]).
Почему (хотя трагический опыт XVII в. показал, что политики, теологи и даже философы не могут договориться ни по одному вопросу, касающемуся устройства мира, церкви или общества, а любые теоретические разногласия легко становятся причиной конфликтов) Локк верит, что парламент, этот коллективный орган управления, куда, вообще-то говоря, может попасть кто угодно, будет издавать законы, которым подчинится все общество? Возможно ли в принципе принятие какой-либо группой людей таких законов, истинность которых, подобно геометрическим доказательствам, не будет вызывать постоянных сомнений, но которые будут касаться не мира идеальных фигур, а реальности? Ко времени работы Локка над его книгой такие группы людей были уже хорошо известны. К ним относились сообщества ученых-экспериментаторов и прежде всего наиболее авторитетное из них — Лондонское королевское общество. [5] Для понимания политологических поисков XVII в. очень важно учитывать то, что мыслители этой эпохи исходили из фундаментального единства законов природы и общества (см., например, работу С. Шапина [9] об отражении династических проблем, возникших в Англии после "славной революции", в гносеологической полемике Лейбница и Кларка).
Уроки Лондонского королевского общества
Безусловно, первоочередной причиной, привлекшей в начале 60-х гг. внимание англичан к работе ученых, была возможность посмотреть очень интересные опыты, в особенности известные ныне каждому школьнику эксперименты Р. Бойля (1627 — 1691), доказывающие существование атмосферного давления. И все же еще более удивительным и значимым для широкой публики было лицезрение достаточно большого сообщества людей различных вероисповедований и политических убеждений, которые наслаждались самым, пожалуй, недоступным в то время благом — возможностью добровольно и осознанно приходить к соглашениям по весьма важным и спорным вопросам. Причем результаты этих соглашений — демонстрационные эксперименты и их объяснения — оказывались достаточно убедительными и для людей, не входящих в сообщество.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Парламент»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Парламент» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Парламент» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.