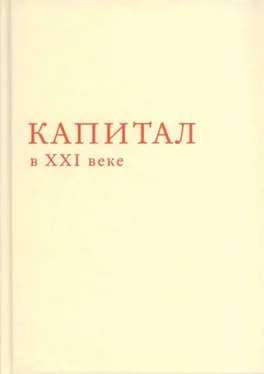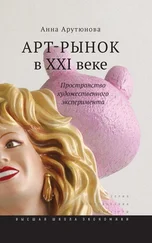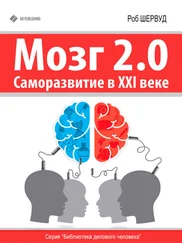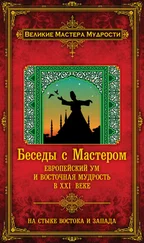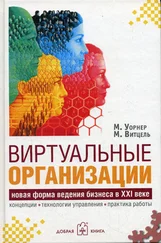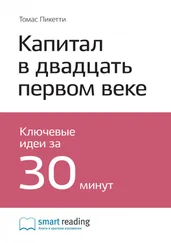Для того чтобы такие сравнения в темпах роста имели значение, важно учитывать средние значения за довольно длительный период (как минимум 10 или 20 лет). За несколько лет темпы роста варьируются по самым разным причинам и не дают возможности прийти к каким-либо выводам.
Расхождение в уровне ВВП на душу населения, в свою очередь, определяется большим количеством рабочих часов на душу населения за океаном. Согласно самым стандартным международным данным. ВВП на час работы примерно одинаков в Соединенных Штатах и в самых богатых странах континентальной Европы (тогда как в Великобритании он заметно ниже: см. техническое приложение). Расхождение в часах объясняется более длительными отпусками и более короткой трудовой неделей в Европе (расхождение в уровне безработицы, которое практически отсутствует, если сравнивать США с Германией или со странами Северной Европы, имеет мало значения). Мы не будем здесь вдаваться в этот щепетильный вопрос и лишь отметим, что выбор в пользу того, чтобы проводить меньше времени на работе по мере того, как растет производительность, по меньшей мере столь же оправдан, как и противоположный выбор. Позволю себе добавить еще одно замечание: тот факт, что Германия и Франция, несмотря на намного меньшие инвестиции в высшее образование (и на ужасающе сложную налоговую и социальную систему, особенно во Франции), добиваются такого же уровня ВВП на час работы, как и США, сам по себе чудесен и, возможно, объясняется наличием более эгалитарной и инклюзивной системы начального и среднего образования.
См. прежде всего вторую главу, график 2.3.
Темпы роста ВВП на душу населения в Соединенных Штатах составляли 2,3 % в год между 1950 и 1970 годами, 2,2 % между 1970 и 1990 годами и 1,4 % между 1990 и 2012 годами. См. вторую главу, график 2.3.
Мысль о том, что Америка внедряет инновации для остального мира, была недавно сформулирована в этой статье: Acemoglu D.. Robinson J.. Verdier T. Can't we all be more like Scandinavians? Asymmetric growth and institutions in an interdependent world. MIT. 2012. Это по большей части теоретичесная статья, главный фактический элемент которой заключается в том, что количество патентов на душу населения в Соединенных Штатах выше, чем в Европе. Это интересный факт, однако он заставляет вспомнить о разнице в юридической процедуре и должен был бы позволить инновационной стране сохранить намного более высокую производительность (или более высокий национальный доход).
См.: Piketty Т., Saez E., Stantcheva S. Optimal taxation of top labor incomes: a tale of three elasticities, рис. 5. таблицы 3–4. Обобщенные здесь результаты основываются на подробных данных, касающихся порядка 3000 компаний в 14 странах.
Кс. Габе и А. Ландье отстаивают мысль о том. что взлет вознаграждений руководителей автоматически вытекает из роста размеров компаний (что приводит к росту производительности наиболее талантливых менеджеров»). См.: GabaixX., LandierA. Why has CEO pay increased so much? // Quarterly Journal of Economics. 2008. Проблема в том, что эта теория полностью основана на модели предельной производительности и никак не позволяет объяснить значительные различия между странами (размеры компаний увеличились повсюду в сравнимых пропорциях, в отличие от зарплат). Эти авторы используют исключительно американские данные, что, к сожалению, ограничивает возможности эмпирического эксперимента.
Мысль о том, что больше конкуренции позволило бы сократить неравенство, часто отстаивается экономистами (см.: Rajan R„Zingales L. Saving Capitalism from the Capitalists. Crown Business, 2003; Zingales L. A Capitalism for the People. Basic Books, 2012 или Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail. The Origins of Power. Prosperity and Poverty), а иногда и социологами. См.: Grusky О. What to do about inequality? // Boston Review. 2012.
По этому поводу уточним, что, вопреки часто утверждаемой, но редко подтверждаемой на практике идее, нет никаких данных, которые бы указывали, что руководители 1950-1980-х годов компенсировали свои более низкие зарплаты более существенными натуральными преимуществами. Все свидетельствует о том. что эти преимущества — частные самолеты, роскошные кабинеты и т. д. — также получили широкое распространение после 1980 года.
82 %, если быть точным. См.: Piketty Т., Saez Е„Stantchevo S. Optimal taxation of top labor incomes: a tale of three elasticities. Таблица 5.
Можно отметить, что прогрессивный налог играет две различные роли в предлагаемой нами теоретической модели (как, впрочем, и в истории прогрессивного налога): конфискационные ставки (в размере 80–90 % для 1 или 0,5 % самых богатых) позволяют положить конец неприличным и бесполезным вознаграждениям: высокие, но не конфискационные ставки (в размере 50–60 % для 10 или 5 % самых богатых) позволяют повысить налоговые поступления и обеспечить финансирование социального государства наряду с отчислениями, выплачиваемыми 90 % менее богатых.
Читать дальше