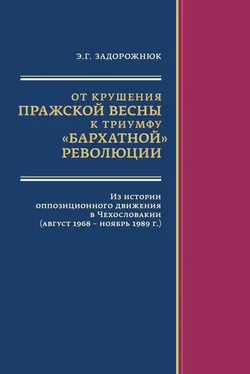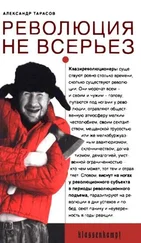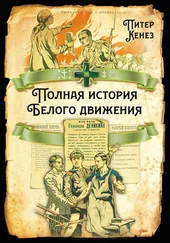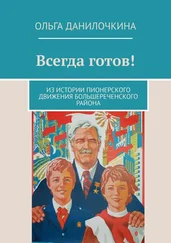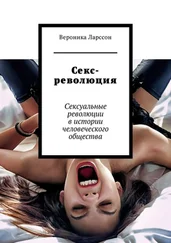В целом наше исследование оппозиционного движения ориентировано на выявление соотношения внешних и внутренних факторов в деятельности оппозиции. Ее история показывает, что предпосылки в ЧССР для интенсификации оппозиционного движения наличествовали на всем протяжении рассматриваемого периода, то есть с августа 1968 г. до ноября 1989 г., но своеобразными «пусковыми механизмами» движения служили мощные внешние факторы.
Характерные примеры: оппозиция отреагировала на 1973‑й, а затем на 1975 год, когда в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), точечными выступлениями, которые продолжались вплоть до 1977 г. Важным стимулом ее деятельности стал и 1981 год, знаменовавшийся появлением «Солидарности» в соседней Польше, не говоря уже о ключевой дате – 1985 г., когда в СССР начался противоречивый, но в международном плане весьма значимый перестроечный процесс.
Выявление этих моментов показывает, что в общем во взаимодействии внешних и внутренних факторов первые оказывали едва ли не определяющее влияние на возникновение новых форм и способов оппозиционного движения. Это неудивительно, поскольку Чехословакия, находясь в центре Европы, по-живому реагировала на любые геополитические, идеологические и т. д. сдвиги, начиная от поисков новых форм взаимодействия между конфронтирующими частями Европы (и Америки) и заканчивая трансформациями самой идеи социализма. То есть страна выступала неким сейсмографом не тол ько уже наступивших, но и созревавших политических сдвигов на политическом пространстве Европы, являясь местом новых импульсов в развитии социалистических, националистических, либеральных или других воззрений. Часто неформальные движения, ориентировавшиеся на ту или иную идею, не носили массового характера (как, например, в Польше), не приводили к внутренним сдвигам в рамках правящих партий (как в Венгрии). Тем не менее они весьма значимы для истории оппозиционного движения в рамках региона в целом.
Важным является также выявление соотношения мифического и реального наполнения тех или иных движений. Оппозиционное движение в Чехословакии приобрело массовый характер лишь ко времени «бархатной» революции 1989 г., в то же время его лидеры и на предыдущих этапах зачастую стремились представить ту или иную протестную структуру в качестве мощной политической силы. Более того, они претендовали на преемственность старых идеологических постулатов (опираясь во многом на свою историческую память, например, на идею «социализма с человеческим лицом») или на создание принципиально новых. В этом особо преуспели хартисты и, в частности, В. Гавел: его идеи «неполитической политики», «власти безвластных», выраженные в форме броских оксюморонов, активно входили в лексикон мировой политической идеологии. Лишь дальнейшие события показали, что разговоры о подобном «наличии отсутствия» политики, стремления к власти и т. п. как раз и являлись способом достижения последней (а в чем-то, согласно довольно злому, хотя и спорному мнению английского исследователя Дж. Кина, даже формой изощренного макиавеллизма); об этом, в частности, свидетельствует и успешная государственная карьера Гавела.
В данной связи актуальной можно считать такую интерпретацию документов, которая позволяет выявить наполненность оппозиционного движения реальными устремлениями и сугубо мифологическую составляющую в нем. Это особенно важно для Чехословакии, которая, как уже указывалось, являлась своеобразным сейсмографом политических и идейных сдвигов на европейском континенте. Можно сказать, что подобная задача не ставилась ни отечественными, ни зарубежными – чешскими, словацкими, западноевропейскими и американскими – исследователями.
Есть еще одно важнейшее обстоятельство, которое требует внимательного прочтения документов оппозиционного движения, включая его диссидентскую составляющую. Испытав в своем развитии немалое воздействие советской перестройки и последующих демократических преобразований в СССР, это движение привело к власти силы, выбравшие путь антисоветизма, а в дальнейшем и русофобии. Внешним проявлением подобного оборота дел стало отсутствие контактов на высшем уровне между РФ и Чешской Республикой на протяжении более чем десяти лет ее существования, когда встреча президентов двух государств состоялась лишь в марте 2006 г. – при мощном идейном противодействии первого президента Чехии. Эта беспрецедентная лакуна побуждает рассмотреть оппозицию под тем углом зрения, в какой мере она ориентировалась на состояние советско-чехословацких, российско-чехословацких, а в перспективе – российско-чешских и российско-словацких отношений. Поразительным является то, что как за «грехи» Советского Союза, явные и вымышленные, так и за пропагандируемые другими силами идеи социализма и коммунизма ответственность возлагалась как раз на РФ, которая уже встала на путь демократизации – со всеми достижениями и издержками этого пути. Внимательный анализ документов позволяет бросить новый взгляд и на данный парадокс.
Читать дальше