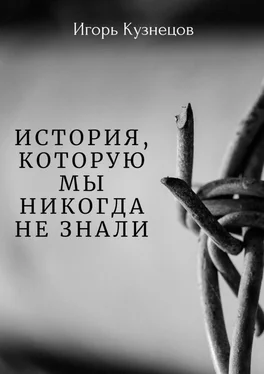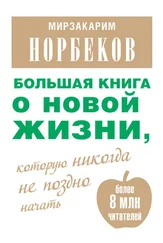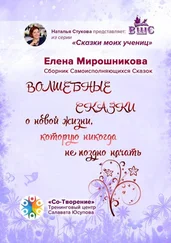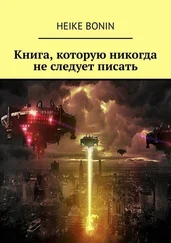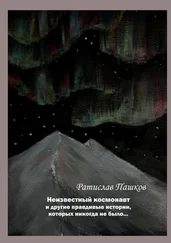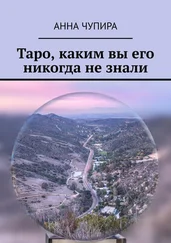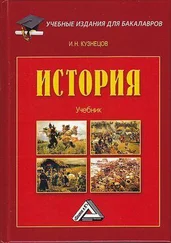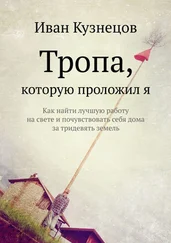Что это были за места, сообщал томскому губернатору чиновник по крестьянским делам Райский: «…что касается участков в Николаевской волости, на которые определяется приблизительно 800 семей, то они стоят в худших условиях по сравнению с другими переселенческими участками как в отношении путей сообщения, так и в отношении приобретения на них хлеба и земледельческих орудий…»
Речка Шегарка довольно многоводная, отделяла эти участки от ближайших деревень во время разлива месяца на полтора-два. Однако земли эти чем-то прельстили Осипа Ханевича, его односельчан Геронима Мазюка и Осипа Маркиша, братьев Александра и Ивана Иочей. Они выбрали этот кусок тайги – Рыбаловский переселенческий участок, где, кроме вековой тайги, имелось несколько еланей – выгоревших мест (меньше труда потребуется для раскорчевки под пашню) да еще стояли две избушки пасечников соседней Молчановской волости. Очевидно, понравилась и глубокая полноводная речка, протекающая рядом…
Записав за собой и своими родственниками эти наделы, вернулись ходоки за семьями. По весне, получив переселенческие свидетельства и подъемные, тронулись в путь. До Томска ехали железной дорогой в товарных вагонах вместе со скотом и провиантом, утварью и крестьянскими орудиями труда (на семью выделяли по одному вагону-товарняку). Дальше до села Молчаново плыли на пароходе по великой «сибирской Миссисипи» – Оби, а там – своим ходом через таежные урманы и болота, к месту обоснования. На карте Томской губернии в 1899 году появился еще один новый переселенческий поселок – Ново-Рыбаловский из 13 дворов.
Трудно обживались на новом месте: сурова сибирская земля с немилосердным таежным гнусом летом и невиданными морозами зимой. Падал скот от бескормицы. От дизентерии, простуд, голода умирали дети. Адский труд по раскорчевке тайги под пашню выматывал взрослых. Однако труд был не в тягость: каждый работал на своей земле, знал, что благополучие семьи теперь зависит только от него самого, а не от пана или чиновников.
Поток переселенцев и ходоков был огромен. С 1884 по 1889 годы в Томскую губернию приехало из Белоруссии 43 тысячи человек, а в следующее пятилетие – более 48 тысяч. В 1907 году, в период наибольшего размаха земельной реформы Петра Столыпина, за год в губернию прибыло 30 тысяч переселенцев.
Однако многим испытание Сибирью оказалось не по плечу. Поток возвращавшихся обратно в Белоруссию год от года возрастал: в 1901 году из Сибири вернулось на родину более 5 тысяч семей, в 1907 году из Томской губернии – 800 семей. Власти на это смотрели спокойно и трезво, предупреждали желающих переселиться в Сибирь в журнале «Сибирское переселение», что «плохого хозяина Сибирь в хорошего не переделает».
Те, кого не испугали трудности, потом обустроились, прижились, поставили крепкие пятистенки, амбары и овины, вырыли колодцы с высокими «журавлями». Все как в родной Белоруссии. Огородили поселок.
Чего добились наши земляки за полтора десятка лет хозяйствования в Сибири, рассказывается во Всероссийской сельскохозяйственной переписи конца 1916 года. К примеру, по данным переписи, в поселке Белосток числилось 95 крестьянских самостоятельных хозяйства, проживало 516 человек, под пашней было 285 десятин возделанной земли. Во всех хозяйствах насчитывалось 267 лошадей и 374 головы крупного рогатого скота. Невелико богатство – 3 – 4 десятины пашни на семью из 7 – 10 человек, по две лошади в конюшне да три коровенки в стайке!.. По сравнению со старожильческими селами и крестьянами наши уроженцы были небогатыми. Но именно они и такие, как они, крестьяне накормили перед войной Россию, а масло сибирских коровушек стало популярным в Европе.
Интересна судьба белоруса ксендза Николая Михасенка – одного из немногих священников, живших в Сибири в годы начала «большого эксперимента» в России. родился он в семье белорусского крестьянина на Витебщине, сам хлеборобствовал. Однако не земля тянула его к себе – хотелось учиться, служить людям и Богу. В 1911 году Николай в возрасте 23 лет принял сан священника, окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и в начале 1913 г. стал настоятелем Белостокско-Маличевской католической общины.
Крестил детей, провожал в мир иной усопших, венчал новобрачных, причащал и исповедовал… Представители новой, Советской власти сразу же люто возненавидели его, человека «старого» мира, служителя культа. В 1923 году, не выдержав провокаций со стороны волисполкомовских работников, лишившись костельского дома, реквизированного под школу, ксендз Михасенок покинул Белосток. Его дальнейшую судьбу раскрывает архивно-следственное «дело», заведенное на него в 1927 году органами ОГПУ Новосибирска.
Читать дальше