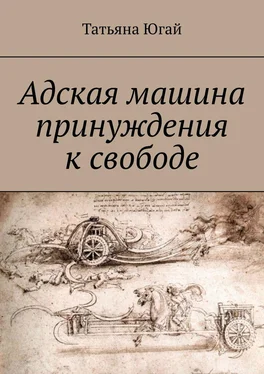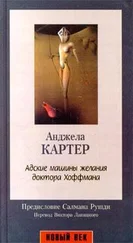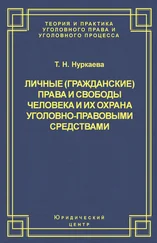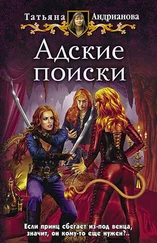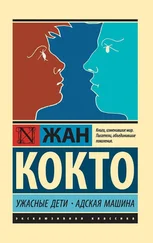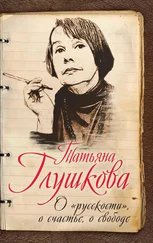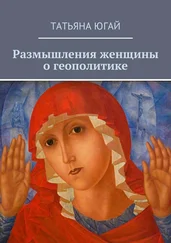С самого начала было ясно, что в России неолиберальные реформы внедрялись при поддержке международных финансовых институтов (МФИ), а именно, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Вместе с тем их роль была не столь очевидной, поскольку на переднем плане активно и шумно выступали наши доморощенные реформаторы. С годами стало понятно, что «чикагские мальчики» были всего лишь статистами, хотя и воображали себя вершителями истории, а главными действующими лицами были Бреттон-Вудские близнецы и их дядя Сэм. Однако мне не была до конца понятна сама технология насаждения неолиберальных реформ. Для того, чтобы ответить на этот вопрос понадобилось обратиться к концепциям политических социологов, в частности, теориям диффузии неолиберализма и концепции расползания миссии международных финансовых институтов. Ключевыми механизмами силового продвижения неолиберальных реформ на штыках МФИ являются практика обусловленного кредитования (стальной кулак), а также генерирование и распространение гегемонисткого знания (бархатная перчатка). Во второй части книги подробно рассматриваются сложная и изощренная технология обусловленности кредитов МФИ и производство ведомственного знания.
В заключение на новом витке спирали, вооружившись знанием поваренных книг и внутренней кухни неолиберализма, я возвратилась к исходному пункту исследования или, вернее, расследования – приватизации в России и Италии. Анализ официальных документов и фактов недвусмысленно свидетельствует о полной несостоятельности мифа об эффективном частном собственнике.
Москва, июнь 2020 года
Часть 1. Заметки на полях культовых книг
1. Аксиома, требующая доказательства
«…В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений».
Иван Бунин, «Окаянные дни» (1926)
В 1990-е годы мировую экономику накрывали большие и малые волны приватизации, а на Россию обрушился девятый вал. За четверть века появилась обширная литература об этом феномене. Предпринятые попытки теоретического обоснования были довольно однобокими поскольку, во-первых, осуществлялись западными, в основном, американскими учеными и, во-вторых, все эти исследователи принадлежали к неолиберальному направлению экономической теории. Этому экономическому мейнстриму противостояли критики процесса приватизации, принадлежащие к умеренно либеральному, кейнсианскому, институциональному и марксистскому направлениям. Однако подлинной научной дискуссии не получилось, поскольку представители разных экономических школ с порога отвергали противоречащие их взглядам теории, не вдаваясь в детали. В итоге получилось нечто наподобие экономической вавилонской башни. В целях обеспечения методологической чистоты исследования представляется целесообразным проанализировать основные просчеты либеральной теории в ее собственных рамках.
Анализ трудов, посвященных приватизации, обнаружил фундаментальные методологические изъяны. Во-первых, отсутствие добротной теории приватизации, разработанной в лучших традициях политической экономии и опирающейся на фундамент классических или, в крайнем случае, неоклассических теорий. Подавляющее большинство исследований носит прикладной характер, т.е. анализирует приватизацию, как составную часть экономических реформ. Получается, что теория обслуживает потребности практики. Как отмечает Стивен Роузфилд, «необходимо прямо заявить, что не существует научной теории о том, как эффективно превратить командную экономику в хорошо функционирующую конкурентную рыночную систему. Теоретики не могут даже продемонстрировать необходимость общего равновесия в производственном секторе в условиях совершенной конкуренции, поэтому нет никаких оснований полагать, что радикальные реформы Егора Гайдара и Анатолия Чубайса должны были привести к хорошим результатам. Принятая ими политика, часто называемая „шоковой терапией“, была аналогична извлечению контрольных стержней из ядерного реактора и утверждала, что последующая цепная реакция создаст лучшую энергетическую систему» [228].
Питер Ратленд в статье «Неолиберализм и российский переходный период» пишет с издевкой. «В любом случае, даже в рамках западной неолиберальной парадигмы не было стандартной теории о том, как превратить всю государственную экономику в конкурентную рыночную систему. До этого неолиберальная теория просто занималась проблемой сворачивания правительства в уже сложившейся рыночной экономике. Таким образом, идеологи транзитологии работали „без карты“. Они должны были выпрашивать и заимствовать идеи из любого опыта, который выглядел релевантным. Многие из теоретических „принципов“, формировавших политику, были изобретены в одночасье, и реальная практика сразу же отклонилась от модели» [209, c.337]. Один из главных действующих лиц российской перестройки Андерс Аслунд откровенно пишет: «Чубайс начал свою деятельность в качестве министра практически с нуля, не имея ни аппарата, ни стратегии» [39, c.281].
Читать дальше