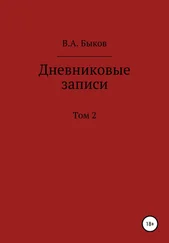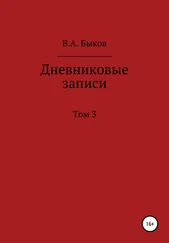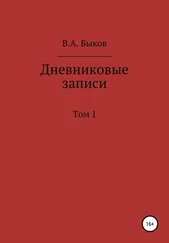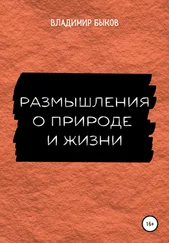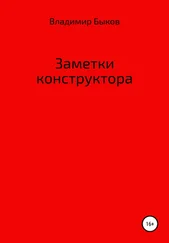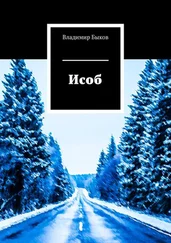Но Маркс настроен на величие своего труда и потому излагает материал в религиозно-мистической манере, придавая товару, его движению и придуманным категориям товарного обращения почти божественные функции. В дополнение к отмеченному, товар у него не нормальный продукт человеческой деятельности, а « гражданин мира », обладает « загадочным мистическим характером », умеет сам « бегать, выступать, достигать, выпадать и превращаться », а все процессы, совершаемые с товаром, исполнены каких-то « противоречий, двойственности, фетишизма и тайны ». Тем не менее, несмотря на столь мощное религиозное прикрытие, Маркс, под давлением, видимо, критики или вновь им чего-то прочитанного, чего-то дополнительно придуманного, в некий момент своего сочинительства ощущает очевидную некорректность написанного. Ему, как любому автору, не хочется перерабатывать сделанное, и придумывается оригинальный выход из создавшегося положения.
Он делает невинное примечание, вроде: «Для того чтобы понять производство прибавочной стоимости, и притом только на основе уже достигнутых результатов нашего анализа , необходимо отметить следующее». Или: «В следующей главе мы увидим, что этот закон имеет значение лишь для той формы прибавочной стоимости, которую мы рассматривали до сих пор». Или: «На базисе товарного обмена предполагалось, что капиталист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как независимые товаровладельцы». Ну и что? А то, что теперь то же самое, после каждого очередного примечания, начинает выписываться в других главах с учетом новых факторов.
На прежнем уровне…, но с учетом влияния на процесс: кооперации, машин и крупной промышленности, рационализации, изобретательства, повышения производительности, интенсивности труда. Теперь для получения 10 ф. пряжи требуется не 10 ф. хлопка, а больше: появились отходы. За счет повышения производительности машин стало сокращаться время труда, а прибавочная стоимость расти, но пока еще вне влияния величины постоянного капитала и без разделения последнего на его абсолютно необходимые при данном анализе отдельные и совершенно по-разному проявляющиеся составные части, расходуемые на постоянные длительного пользования средства производства и быстро обращаемые материалы. Далее по тем же правилам вводятся понятия о кредите, основном и оборотном капитале, времени и его влиянии на оборот капитала… Но снова все в том же качественном виде и опять с тенденциозно-болезненным вытаскиванием на главный план «прибавочного» труда и его стоимости. Все становится ясным.
Маркс и подавляющее число известных ему экономистов были достаточно кабинетными учеными, мало понимавшими истинные реалии жизни. Писали они, судя по многочисленным цитатам, составляющим по объему чуть не добрую половину «Капитала», больше для своего круга. Писали почти все трафаретно с величайшей самовлюбленностью и прожектерскими притязаниями на открытия, отсюда одинаково некорректно, с большим количеством упущений и потому, как бы специально, предоставляли друг другу материал для взаимной того же качества критики.
Капиталисту эти кабинетные труды были не нужны. Из любопытства он их, может, и полистывал, расширял свой кругозор, но про себя посмеивался и удивлялся – разве только легкости слога и писательской плодовитости авторов.
Действовал же в жизни совсем по-другому, исходя из главных особенностей интересующего его процесса. Последний обязывал капиталиста срочно придумать то, чего еще нет
у потенциальных конкурентов, сделать это придуманное возможно качественнее, быстрее и с минимальными затратами, а для этого купить всё, включая рабочую силу, подешевле и надлежащего вида и заставить, используя свой талант и способности (про которые Маркс совсем забыл), все доставленное продействовать должным образом. Затем, согласно давно известным законам рынка, привлечь доброго продавца (не исключая той особы со стройными ножками) и поручить сбыть товар там, где на него высокий спрос и где можно взять максимальную цену. Учесть при этом кучу других факторов. Наконец, сосчитать правильно, поскольку все делается в реальном пространстве и времени, дебет – кредит, взвесить, соответствует ли полученный доход им ожидаемому, и ринуться, если повезло, в очередную авантюру.
В чем же тогда особенности товарного рынка при капитализме? Да ни в чем. Все его принципы известны с времен, когда человек научился таскать головешку для розжига своего костра. Изменились лишь масштабы. Выгодная сделка (хоть купля, хоть продажа чего бы то ни было) для одной стороны по отношению к другой основывалась всегда на их неравенстве: когда на одной стороне – богатый, сильный и сытый, а на другой – бедный, слабый и голодный. Это неравенство возникло на земле от природы, с момента появления на ней первого живого существа. Человек здесь даже никакое не исключение, так что эксплуатация – от общественного неравенства людей, причем группового, а отнюдь не классового. Марксовый прибавочный труд (который к тому же, поговаривали, придумал первым вовсе не он, а некий Ротбертус) – тут ни при чем. «Теория» прибавочной стоимости есть с позиций настоящей науки самая настоящая фикция.
Читать дальше
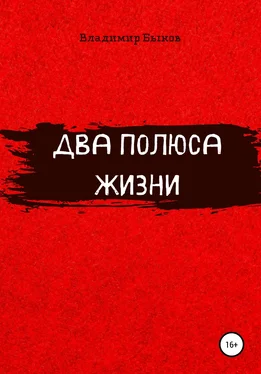

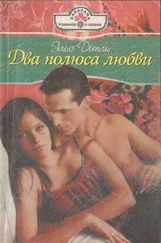
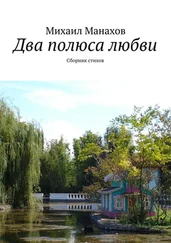
![Вера Окишева - Два полюса [СИ]](/books/413191/vera-okisheva-dva-polyusa-si-thumb.webp)