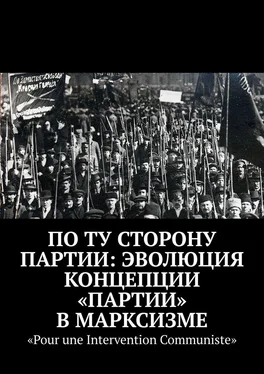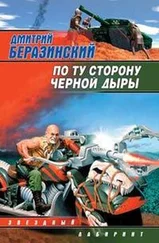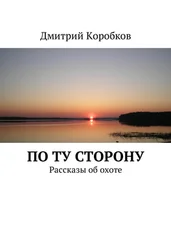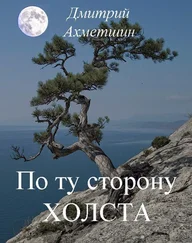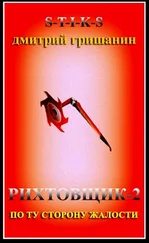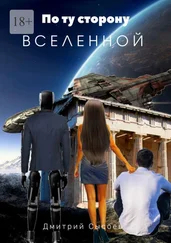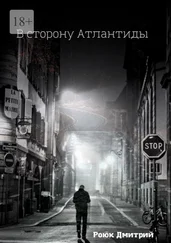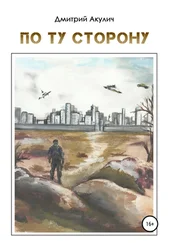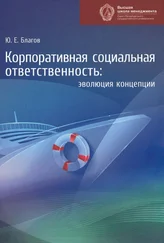Тема единства получила дальнейшее развитие, и переговоры о запланированном слиянии были согласованы с лассальянскими элементами в эйзенахской партии; позже переговоры пользовались активной поддержкой Либкнехта и, в меньшей степени, Бебеля, после того, как оба они были освобождены из тюрьмы. Так, 7 марта 1875 г. «Volkstaat» и «Neuer Sozial-Demokrat» одновременно опубликовали обращение ко всем социал-демократам Германии, а также проект программы и совместные уставы, составленные на предварительном совещании, состоявшемся 4 и 15 февраля 1875 г. где присутствовали эйзенахцы и лассальянцы. Объединительный съезд проходил с 22 по 27 мая 1875 года в городе Гота.
с) «Объединенная» социал-демократическая партия или… от критики к покровительству.
Маркс и Энгельс сознательно держались в неведении относительно подготовки В. Либкнехта к слиянию. Это можно заключить из письма Энгельса Бебелю (18—28 марта 1875 г.), в котором его автор, проинформированный о предстоящем объединительном съезде, прочитав только что опубликованный проект программы предлагаемой новой партии, написал превосходную критику программы и заявил: «Почти каждое слово в этой программе, которая, к тому же, написана безвкусно, подвержено критике. Она такова, что, если она будет принята, мы с Марксом никогда не сможем признать новую партию, созданную на этой основе, и должны будем самым серьезным образом рассмотреть, какую позицию – публичную или частную – мы должны занять по отношению к ней. Помните, что за границей мы несем ответственность за все заявления и действия Германской Социал-Демократической Рабочей партии. Пример Бакунина с его работой „Государственность и анархия“, где мы вынуждены отвечать за каждое неразумное слово, сказанное или написанное Либкнехтом с момента создания „Demokratisches Wochenblatt“. Люди воображают, что отсюда мы ведем все шоу, в то время как вы знаете не хуже меня, что мы почти никогда не вмешивались во внутренние дела партии, и то только в попытке исправить, насколько это возможно, то, что мы считается грубыми промахами – и то только чисто теоретические промахи. Но, как вы сами понимаете, эта программа знаменует собой поворотный момент, который вполне может заставить нас отказаться от любой ответственности в отношении партии, которая ее принимает. Вообще говоря, официальная программа партии имеет меньшее значение, чем то, что она делает. Но новая программа – это, в конце концов, публичное знамя, по которому внешний мир судит о партии. Следовательно, что бы ни случилось, не должно быть возврата, как здесь, к программе Эйзенаха. Также следует подумать о том, что рабочие других стран подумают об этой программе, какое впечатление произведет это преклонение всего немецкого социалистического пролетариата перед лассальянством».
Это предупреждение Энгельса кажется совершенно ясным: историческая партия грозится не выступить в качестве гаранта политических маневров пролетарской партии в Германии и даже публично занять критическую позицию по отношению к ней. Ближе к концу того же письма Энгельс осуждает, в частности, поведение Либкнехта: «… Либкнехту я написал, но кратко. Я не могу простить, что он не сказал нам ни слова обо всем этом (в то время как Рамм и другие считали, что он дал нам точную информацию), пока это не было, так сказать, слишком поздно. Правда, это всегда было его обычаем – отсюда большое количество неприятной переписки, которую мы, как Маркс, так и я, вели с ним, но на этот раз это на самом деле очень плохо, и мы определенно не будем действовать согласованно с ним».
Лидер социал-демократов по своему обыкновению ответил оппортунистическим образом, заявив, что объединение, даже с некоторыми «пробелами» в программе, способствовало последующему прояснению позиций: «Пробелы в программе, о которой вы говорите, несомненно, существуют, и мы полностью осознавали это с самого начала. Но они были неизбежны на конференции, если мы не хотели прерывать переговоры. Лассальянцы только что встретились со своим исполнительным комитетом и прибыли с императивным мандатом в отношении нескольких пунктов, которые вызывают наибольшие споры. Мы должны были уступить им, тем более, что ни у кого из нас (или даже у лассальянцев) не было ни малейшего сомнения в том, что объединение будет означать смерть лассалльанства» ( Письмо В. Либкнехта Энгельсу от 21 апреля 1875 г.).
Тогда Маркс решил вступить в бой и начать, в известном смысле, «последнюю битву» исторической партии. В письме В. Бракке, одному из своих самых преданных последователей, он приложил «Примечания на полях к Программе Германской Рабочей Партии», более известные как «Критика Готской программы», чтобы обратить к ней внимание руководства партии эйзенахцев. Однако у него не было никаких иллюзий относительно эффективности этого шага, поскольку он знал, что социал-демократы будут маневрировать с целью скрыть его критические замечания, и не станут использовать их для изменения своей программы (см. Примечание, приложенное к письму Бракке). Фактически, «Vorwärts» (газета «Объединенной» партии) опубликовала критику Маркса в отношении Готской программы только через шестнадцать лет после того, как она была впервые изложена в частном порядке(см. приложение от 1 и 3 февраля 1891 г.). Кроме того, «Vorwärts» опустил введение, написанное Энгельсом, который стремился к тому, чтобы публикация этого текста послужила основой для общей дискуссии при подготовке к Конгрессу 1891 года вопреки намерению В. Либкнехта использовать без каких-либо явных цитат критику Маркса с целью разработки новой программы (которая будет принята в Эрфурте 14—20 октября 1891 г.). Чтобы подтвердить понимание Маркса, а также его собственное, относительно причин политики молчания, которой придерживалась Социал-демократическая рабочая партия во время подготовки к слиянию в 1875 году, вот что Энгельс писал Бебелю 1 мая 1891 года: «Какая была позиция? Мы знали так же хорошо, как и вы, и, например, газета „Frankfurter Zeitung“ от 9 марта 1875 г., которую я нашел, что вопрос был решен, когда ваши аккредитованные представители приняли проект. Следовательно, Маркс написал это просто для того, чтобы успокоить свою совесть, о чем свидетельствуют добавленные им слова – dixi et salvavi animam meam [я говорю и спасаю свою душу] – и без всякой надежды на успех».
Читать дальше