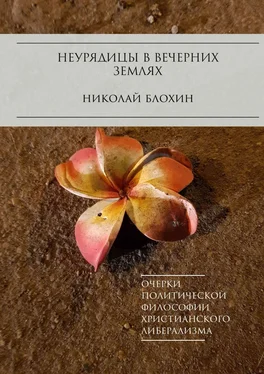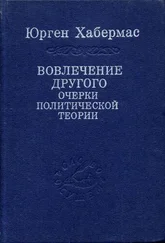Тем не менее, в спонтанном функционировании человеческого воображения отчетливо проявляется тенденция «упрощать» нам жизнь, облегчая негативные, болезненные эмоции. Например, большинство людей относительно редко вспоминают, а вспомнив – редко задерживаются мыслью на смерти, хотя смерть неизбежно ожидает каждого из нас. Нам неприятно даже думать об опасных или отталкивающих вещах – и воображение направляется по пути наименьшего сопротивления. Вероятно, это же избегание сопротивления побуждает людей воображать в качестве врагов, источников беспорядка, или просто как неприятных типов, таких людей, которые заведомо уязвимы, заведомо слабее нас. Борьба с ними позволяет испытывать радость победы, не требуя высоких издержек.
Это, по-видимому, объясняет важнейшую характеристику буллинга – асимметричное соотношение сил. Буллинг – это борьба, которую ведут именно для того, чтобы почувствовать себя победителем с наименьшими издержками. Таким образом, буллинг вполне рационален – если только принять во внимание, что первичная цель буллинга – субъективное удовлетворение, а не овладение какими-то материальными ресурсами.
Впрочем, именно потому, что буллинг способен приносить субъективное удовлетворение, его можно использовать и для достижения других целей. Как упоминалось выше, буллинг может использоваться, чтобы сплотить группу вокруг инициатора – и, тем самым, повысить его (инициатора) социальный статус. Из сказанного выше логика этого процесса уже ясна. Инициатор буллинга, начиная травлю более слабого субъекта, делает явной слабость своей жертвы и, тем самым, создаёт соблазн для зрителей – испытать радость победы с заведомо низкими издержками, примкнув к более сильной стороне.
В такой ситуации воображению зрителей легко представить дело таким образом, что жертва действительно является неприятной, отталкивающей или даже опасной – и они присоединятся к травле с полной уверенностью в своей правоте. А общее дело, причем успешное и приятное, сближает людей, создаёт у них чувство общности.
Феномен переноса враждебности на заведомо слабого «козла отпущения» и сплочения группы общей враждебностью к этой жертве, обнаружил, независимо и от А. А. Зиновьева и от школьных психологов, известный французский литературовед и антрополог Рене Жирар.
Где он это увидел? Не в жизни советских людей и не в жизни школьников, а в античных мифах и в текстах Библии – с той разницей, что античные мифы обычно выражают точку зрения толпы, враждебной отщепенцу, а библейские нарративы встают на сторону жертвы, ясно утверждая её невиновность (ср. историю Иосифа и его братьев или историю Иова в Ветхом Завете, или историю самого Христа в Новом Завете).
Естественно, Жирар придумывает для этого феномена своё собственное название. Не «коммунальные отношения», как у Зиновьева, и не «буллинг», как в психологии, а «цикл миметического насилия» 11 11 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего, как молния. Москва, 2015. С.26 и сл.
. В ходе этого «цикла» конфликты между разными людьми внутри сообщества отходят на задний план – их вытесняет общая ненависть к «козлу отпущения», к отщепенцу, к жертве общей травли. «Существует взаимная конкуренция скандалов, которая продолжается до того момента, когда на сцене остаётся лишь один – вызывающий наибольшую поляризацию скандал. В этот момент сообщество мобилизуется против одного-единственного индивида» 12 12 Там же. С. 30.
.
Анализируя античные мифы, Жирар приходит к выводу, что именно из спонтанного коллективного насилия против отщепенцев вырастает известная большинству народов древности форма культа – жертвоприношение.
«Кровавые жертвоприношения суть попытки смягчить или умерить внутренние конфликты архаических сообществ, воспроизводя, как можно более точно, за счёт жертв-заместителей первоначальной жертвы, реальные насилия, которые в неопределимом, но отнюдь не мифическом прошлом действительно примиряли сообщества, благодаря механизму единодушия <���…> хотя они отличаются друг от друга в подробностях, их основные структурные признаки – всегда те же самые, и именно модель коллективного спонтанного насилия их и вдохновляет очевидным образом» 13 13 Там же. С.87.
.
Субъективную логику перехода от коллективного спонтанного насилия к регулярно повторяемому ритуалу Жирар объясняет тем, что люди запоминают то чувство общности, то переживание единства, к которому привело коллективное спонтанное насилие. Они интерпретируют этот опыт таким образом, что убитый оказался жертвой, угодной богам; что боги, получив эту жертву, даровали сообществу мир и благоденствие. Следовательно, принесение жертв нужно возобновлять регулярно 14 14 Там же. С. 88.
.
Читать дальше