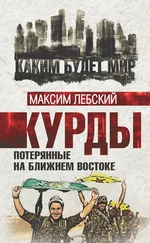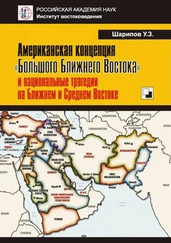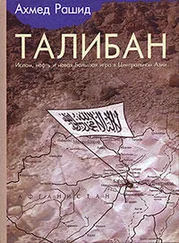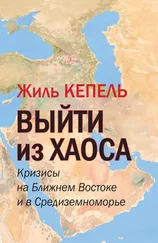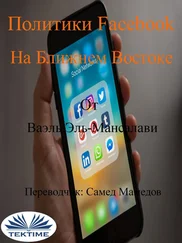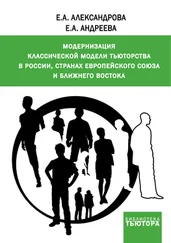В то же время контакты на высшем и среднем уровнях российского истеблишмента с руководством стран региона создают систему сдержек и противовесов, в достаточной мере напоминающую построенную странами западного мира. Именно эта система наряду с геополитической и экономической реальностью, корпоративными и ведомственными интересами, фобиями, стереотипами, а также личными предпочтениями и наработанными системами связей и создают то, что можно назвать отечественной ближневосточной политикой. Причём в ряде случаев политика эта, при всей её взвешенности, торпедируется волюнтаризмом местных лидеров.
При этом политика России на БСВ мало чем похожа на последовательную советскую – в чём можно найти и положительные и отрицательные стороны. Она не повторяет и не может копировать её по определению. Необходимых для этого резервов – технических, финансовых и кадровых – сегодня не существует не только у Москвы, но и у всех вместе взятых стран Запада, Китая, Индии, государств Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии, которых всё, происходящее на Ближнем и Среднем Востоке, так или иначе касается. Новое время – новые песни…
За время, прошедшее с 60–80-х годов – пика региональной активности СССР, произошёл не только распад социалистической системы и нашей страны. Сам регион изменился коренным образом. Численность его населения выросла в разы. Проблемы увеличились на порядок. Элита деградировала. Конфликтный потенциал реализовался в войнах и внутренних столкновениях, последствия которых сопоставимы с проблемами, возникшими в Европе по окончании Второй мировой войны. БСВ, за немногими исключениями, не обладает и в обозримой перспективе вряд ли будет обладать промышленной, интеллектуальной и аграрной базой, которая позволила возродить послевоенную Европу. Скорее следует ждать нескольких десятилетий государственных переворотов, революций, этнических и конфессиональных чисток, гражданских войн, межгосударственных конфликтов там, где отечественные специалисты строили металлургические заводы и плотины…
Поставки отечественной военной и гражданской техники остались памятником активности нашей страны в арабском мире второй половины ХX века. Кстати, эти мегапроекты в значительной мере обанкротили Советский Союз, подготовив его распад. По самым приблизительным подсчётам, страны «социалистической ориентации» и государства «третьего мира», бо́льшая часть которых располагались на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке, остались должны Москве более $ 160 млрд – значительно больше, чем весь внешний долг СССР и России. Особая история – долги по военно-техническому сотрудничеству. Не существует ни одной ближневосточной страны, бывшей партнёром СССР, которой российскому руководству не пришлось бы списывать в Новейшее время многомиллиардные долги с тем, чтобы начать с ней сотрудничество «с чистого листа». Трудно сказать, насколько это было оправданно – разве что оправданием служит то, что денег России всё равно никто бы никогда не вернул. Однако бескорыстие такого рода хорошо до определённых пределов, и пределами этими являются стратегические интересы России.
Присутствие на Ближнем и Среднем Востоке «любой ценой» можно было оправдать в период глобального противостояния сверхдержав, когда соперничество возглавляемых ими идеологических систем могло перерасти в военное противостояние. Задача эта перед Российской Федерацией более не стоит. Её безопасность зависит от положения на постсоветском пространстве: в Закавказье, Центральной Азии и на Украине в куда большей мере, чем от ситуации на БСВ. Вопрос вопросов при этом, зачем и по каким именно направлениям расходовать ограниченные ресурсы страны. Вложения Китая окупаются всегда и везде. Европы и США – почти всегда. Да и размеры их ресурсов несравнимы с отечественными. Для того чтобы не проигрывать в соревновании с конкурентами, России нужно научиться считать. Что, разумеется, опечалит появившихся в 90-е годы лоббистов, в том числе работающих в госструктурах, задача которых сводится к реализации малоосмысленных, но хорошо обоснованных перед начальством внешнеэкономических инициатив.
Второй, ещё более важной задачей является умение трезво оценивать происходящее в той или иной стране, просчитывая политические риски не менее тщательно, чем экономические. Хотя пока что и в отношении экономических расчётов у действующего российского руководства плоховато… чтоб не сказать плохо. О чём свидетельствует вся история современных отношений России с той же Турцией – от вышеупомянутой АЭС «Аккую» до «Турецкого потока». То есть отечественная политика вечно забегает вперёд экономики и путается у неё под ногами, отчего обеим плохо… Удастся ли России перебороть указанные минусы – вопрос, осложняемый тем, что для страны характерны высокая коррупционная составляющая, неэффективность бюрократии, засилье неповоротливых и затратных государственных корпораций, непрозрачность финансовых схем и низкая исполнительская дисциплина, недостаточный профессиональный и образовательный уровень менеджмента, включая высшее и среднее звено, а также снижающийся интеллектуальный и технологический потенциал. Это превосходно понимают арабские, турецкие, иранские, израильские, пакистанские и афганские партнёры России, рассматривающие сотрудничество с нашей страной только в ситуациях невозможности работы с Западом или государствами Азиатско-Тихоокеанского региона – как своеобразную приманку для конкурентов Москвы.
Читать дальше
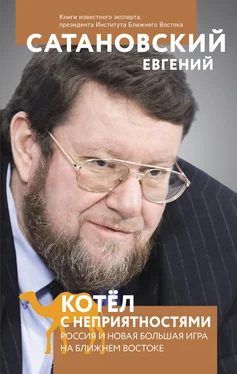
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)